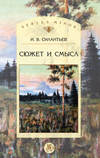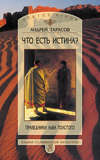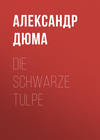Buch lesen: «По ту сторону порнографии и морализма. Три опыта прочтения «Лолиты» В. В. Набокова»
© Сендерович С. Я., Шварц Е. М., текст, 2021
© Издательский Дом ЯСК, 2021
Введение
Романы Владимира Набокова принадлежат числу сложнейших текстов европейской художественной литературы. Такие тексты нет смысла рассматривать в какой-либо одной концептуальной плоскости. В различных контекстах, в оптических фокусах разной разрешающей силы и их множественных интертекстуальных планах неуместно искать единое логически правильное поле. Напрашиваются сравнения стиля Набокова-романиста с многогранным драгоценным камнем (The Prismatic Bezel – название первого романа Себастьяна Найта) или фасеточным глазом насекомого, отражающим мир под множеством углов. Но такие метафоры вносят упрощение: фасеты набоковских художественных миров требуют – каждый – своего подхода, особой исследовательской методологии.
На этих страницах собраны три опыта чтения романа «Лолита» (1956) (в обеих его версиях – оригинальной английской и авторском переводе на русский язык) под тремя различными углами зрения.
Первый опыт посвящен пронизывающему роман полемическому диалогу Набокова с концепциями Вяч. И. Иванова, поэта, теоретика, русского ницшеанца, основоположника эстетической, в сущности театральной, концепции русского Серебряного века. Ориентация эта необычна, так как включает обыгрывание самой человеческой фигуры Иванова, как она обозначилась на культурном горизонте, в контексте литературного быта.
Второй опыт рассматривает пробегающие в романе тени мотивов Александра Блока. Не тех мотивов, что можно было бы ожидать обращаясь к влиятельному поэту. Набоков писал Эдмунду Уилсону в 1943 году: «Блок <…> – один из тех поэтов, что становятся частью вашего существа, и все становится неблоковским и плоским. Я, как и большинство русских, прошел через эту стадию примерно двадцать пять лет тому» (NWL: 94). Мы обращаемся к мотивам из не художественных текстов Блока – из его статей о литературе. В самом американском романе Набокова обнаруживается довольно эзотерическая русская территория, в которую он вписан, на которой он ориентирован.
В третьем опыте нами подняты вопросы этики и эстетики Набокова, рассмотрены их удивительные течения и повороты в их своеобразном, проблемном взаимном пересечении и переплетении.
Все три опыта чтения романа, будучи независимы друг от друга, имеют общий контекст, разработанный нами за последние 25 лет в полусотне статей: представление о том, что всё творчество Набокова преломляет мир сквозь призму художественного и философского мышления Серебряного века русской культуры. Но Набоков не остается в его рамках, а, обыгрывая, переигрывает его насвежо, спорит с ним, принимает его как ткацкую основу, по которой расшивает собственные вúдения и узоры мысли. Интертекстуальные исследования получили большое распространение с середины ХХ в., но они как правило сводятся к частным текстуальным перекличкам; мы же заняты выявлением обширных контекстов, которые задают набоковским текстам уникальные резонантные пространства. Их распознание актуализует особые звучания набоковских текстов. Как нельзя читать Толстого, не познакомившись с социальным контекстом России ХIХ века, так Набоков останется непрочитанным без контекста культуры Серебряного века.
Первые версии включенных в эту книжку эссе опубликованы в следующих изданиях:
«Закулисный гром») // Wiener slawistischer Almanach, № 44, 1999, сс. 23–47.
«Лолита. По ту сторону порнографии и морализма») // Литературное обозрение, № 2, 1999, сс. 63–71. (Idem: Старое литературное обозрение, № 1, 2001, сс. 67-7.)
«Lolita the Butterfly» // Nabokov Studies, № 17, 2020 (в печати).
Закулисный гром:
О замысле «Лолиты» и о Вячеславе Иванове
Закулисный Иванов
В письме подруги Лолиты, Моны Даль, описывающем школьный спектакль с роковым для Гумберта Гумберта названием «Зачарованные охотники», в котором она играла, упоминается между прочим следующее обстоятельство: «… невероятная гроза на дворе несколько заглушила наш скромный “гром за сценой”» (ССАП: 2.
273; в дальнейшем в ссылках на «Лолиту» в этом издании указываем только страницы). На этой, казалось бы, проходной фразе следует остановиться; дело в том, что в словаре Набокова гром за сценой или закулисный гром – не единичное и значит не случайное выражение, это мотив. Набоков его употребил в «Других берегах», характеризуя обстановку последних лет старой России: «И уже погромыхивал закулисный гром в стихах Александра Блока» (ССРП: 5. 284. Здесь и далее подчеркивания наши. – С.С., Е.Ш.). В этой фразе, помимо намека на «Балаганчик» и на революционные тенденции поэта, слышен отзвук слов, сказанных Александром Блоком Андрею Белому о Вячеславе Иванове (о его статье «Мысли о символизме» (1912): «Над печальными людьми, над печальной Россией в лохмотьях он с приятностью громыхнул жестяным листом» (письмо от 16 апреля 1912 // Блок 1960: 8. 387). «Закулисный гром», упомянутый в «Других берегах» и «гром за сценой» в «Лолите» – это гром, производимый в театре с помощью жестяного листа. Этот образ у Блока выражает желание отделить свое острое трагическое восприятие судеб России от «театральной трагедийности Иванова». Является ли «гром за сценой» в «Лолите» целенаправленной аллюзией или ассоциативной реминисценцией, так или иначе этот мотив служит нам эмблемой связи Блока и Иванова в набоковском восприятии. За отчетливой фигурой Блока в текстах Набокова, как это и было в реальном ландшафте культуры эпохи, то и дело выглядывает фигура другого корифея символизма, Вячеслава Ивановича Иванова. Закулисный гром Иванова, подхваченный Блоком, – это его теория происхождения трагедии из дионисийского культа, в котором «пафос боговмещения, полярности живых сил разрешаются в освободительных грозах» («Ницше и Дионис», 1904; цит; по: Иванов 1909: 8). Теории Иванова воспринимались одними современниками как пророчества о той «невероятной грозе на дворе» русской истории, которая их заглушила, другими же, – как пророчества шутовские, балаганные (см. Д. Мережковский, «Балаган и трагедия», 1910), а слова Блока были ироническим признанием того и другого. Но подлинная ценность скромного закулисного грома в «Лолите» заключалась в том, что это был символ, принадлежащий контексту мыслей о современной театральной культуре. Прозвучали они не со сцены, а в теоретических кулисах театральной культуры Серебряного века.
Набоков никогда не упоминал Вяч. Иванова прямо по имени, но мы намерены показать, что тексты Набокова пронизаны диалогом с ним. Этого можно было ожидать: Набоков был продуктом петербургского Серебряного века, Символизма в первую очередь. Иванов же был ведущим теоретиком младшего Символизма, а его знаменитая «башня» – важнейшим центром литературной жизни в период 1905–1912 годов. Объяснение, разумеется, находится на более глубоком уровне, но и эти внешние знаки ведут нас в нужном направлении. То, что Набоков, имея в виду Иванова, не называет его по имени, подразумевает особую значимость: прятать наиболее важное – таков обычай Набокова.
Что касается «Лолиты», то диалог с А. Блоком составляет канву, или контурную карту, той территории, на которой роман концептуально развернут. В неменьшей степени «Лолита» связана с Вяч. Ивановым; в первую очередь с ним связан самый замысел романа. Блок – эолова арфа эпохи, но не мыслитель, считал своим долгом высказываться по вопросам мировоззрения и философии искусства. В этом он был главным образом последователем Вяч. Иванова. Ивановский закулисный гром погромыхивал в его стихах. Свою программную статью «О современном состоянии русского символизма», на которую Набоков отозвался в «Лолите», Блок назвал «бедекером по Иванову» (Блок 1960: 5. 426).
В качестве теоретика символизма Иванов сильно отличался от Блока. Если Блок вещал в визионерских образах и в тонах откровения, то символизм Иванова был рассудочно-философским и все же не абстрактно измышленным, а состоявшим в интерпретации символов, находимых готовыми в истории культуры. Его книжный мистицизм черпал убедительность в психологии творчества. Ивановский теоретический символизм имел собирательный характер, он сводил воедино разнородные элементы культуры, он опирался на аналитическую и интегративную работу структурального и систематического типа. Иванов выступил в роли кодификатора истории европейской культурной традиции с точки зрения нового Символизма. Его усилиями внедрилась пожалуй самая известная символистическая формула: a realibus ad realiora, от действительности к высшей действительности, под которой подписался практически каждый из младших символистов. Блок нашел в ней формулу синтеза диалектической квази-истории символизма, и развернул ее в статье «О современном состоянии русского Символизма».
В более точном смысле, той территорией, которую Блок прокомментировал в своем бедекере по Иванову, был доклад Вяч. Иванова в московском Обществе Свободной Эстетики и в петербургском Обществе Ревнителей Художественного Слова, который он затем оформил в статье «Заветы символизма», опубликованной в журнале «Аполлон» за май-июнь 1910 г. вместе с путеводительным докладом Блока в том же петербургском Обществе.
Статья «Заветы символизма» претендует на роль Нового Завета Символизма, причем роль Ветхого Завета с ивановской позиции достается Символизму французскому. Формула Иванова a realibus ad realiora лежала в основе эстетики, метафизики, космологии, историософии и теологии нового Символизма. Она прежде всего обозначала мистическую установку сознания художника, проницающего мир, в котором за внешними ежедневными явлениями лежит мир высших сущностей. Отличительными признаками «чисто символического художества», по Иванову, является «гармонически найденное созвучие того, что искусство изображает как действительность внешнюю (realia), и того, что оно провидит во внешнем как внутреннюю и высшую действительность (realiora)» (Иванов 1916: 134). В этом смысле Иванов называет свой мистический Символизм – реалистическим, а французский, ограничивающийся проекциями внутреннего на внешний мир, – идеалистическим.
Иванов предлагает диалектическую картину истории современного Символизма (что и было подхвачено Блоком). Первым диалектическом моментом душевной истории художника, тезой, является осознание художником, что мир волшебен, «что есть ходы и прорывы в его тайну из лабиринта души человеческой» (там же: 136). Это оптимистический момент доверия миру, за которым, однако, наступает момент распада и религиозно-нравственного испытания и отчаяния, ведущего к неприятию сего мира. Это второй момент, антитеза. Если первый характеризуется теургической установкой художника, то второй – романтической ностальгией по прежним лучезарным видениям души. Если символизм этих двух моментов заключается в создании разрозненных и рассеянных символов, откуда происходит преобладание лирики, то третий момент, синтез, должен возникнуть в цельном и едином миросозерцании поэта. Тут возникнет теория большого стиля символической трагедии. У Иванова все сходится к теории трагедии и все из нее вытекает.
Путеводители Бедекера отмечали места, достойные посещения, звездочками. Блок, называя свою статью о Символизме «бедекером по Иванову», имел в виду очень конкретную подробность: он отмечает, как Бедекер звездочками, места наиболее ему близкие в статье Иванова. Сравнение с Бедекером было подсказано должно быть самим Ивановым – его излюбленным мотивом кормчих звезд.
Своеобразным бедекером романной символики предстает казалось бы необъяснимо растянутый перечень достопримечательностей, осмотренных Гумбертом и Лолитой в их первом путешествии по Америке. Внешне он напоминает так называемые эпические перечисления, которыми полна повествовательная литература от Гомера до Апдайка; Особый смысл им придавал Иванов, отметивший перечни от Гомера до Андре Жида («Две стихии в современном символизме» // Иванов 1909: 253): он видел в них магию, вызывающую в читателе сознание «реального бытия» – в смысле высшей реальности, которую он же называл realiora. Перечень достопримечательностей в «Лолите» имеет символический смысл в особом, набоковском значении, откликающемся на ивановский контекст.
Ежеутренней моей задачей в течение целого года странствий было изобретение какой-нибудь предстоящей ей приманки – определенной цели во времени и пространстве – которую она могла бы предвкушать, дабы дожить до ночи. <…> Поставленная цель могла быть чем угодно … <следует перечень – С.С. и Е.Ш.>, все равно чем, но эта цель должна была стоять перед нами, как неподвижная звезда… (187)
В следующей главе, продолжая список достопримечательностей, Гумберт упоминает парк Магнолий в южном штате, который они посетили, «потому что Бэдекер в 1900-ом году его отметил звездочкой» (191).
В нашем путеводителе по теме «Иванов и Набоков» мы отметили звездочкой «гром за сценой», или «закулисный гром».
Орхестры и фимелы
Самый заголовок упомянутой выше статьи Мережковского, «Балаган и трагедия», симптоматичен для культуры Серебряного века, который свел эти два понятия.1 Культура эпохи была пронизана вагнерианской идеей синтеза искусств. Театр мыслился местом и условием этого синтеза. Это была эпоха новаторства в театре, эпоха появления особо эксцентрических форм театральности. Первой среди них по влиятельности была возрожденная commedia dell’arte. Как заметил Дуглас Клейтон, покрытая ромбами фигура арлекина стала иконой авангардистской революции (Клейтон 1994: 7). Русским Серебряным веком был оживлен легкий, светлый дух венецианской комедии масок 17-го столетия, воспринятой в музейной рамке старинного и потому высокого искусства, но гораздо распространеннее была ее балаганная разновидность – с тем особым русским оттенком слова балаган, который подразумевает стихию примитивную, неуправляемую, разрушительную, страшную (там же: 14), который звучит в выражении «да это же балаган». Эпоха была насыщена апокалиптическими настроениями, и поэтому не странно то, казалось бы, парадоксальное обстоятельство, что концептуальная экспансия балагана в художественной культуре вовлекла в свою сферу и трагическое и самое трагедию.
Русский Серебряный век в определенном смысле был и русским ницшеанством. В могущественном импульсе, заданном Фридрихом Ницше, гениальным автором «Рождения трагедии», видели – Иванов в первую очередь – залог всеобщего обновления (см. Иванов [1923]: 11). Концепцию этой книги раннего Ницше (1872) Иванов по-своему развивал в целом ряде работ, положив ее в основу своего представления о европейской культуре как органическом единстве, в рамках которого культура античного язычества – в той интерпретации, которую дал ей Ницше, – содержала в себе зерно христианства. Перекраивая теорию Ницше, Иванов стал мерить все явления культуры их отношением к дионисийскому культу. Ивановская концепция оказала сильнейшее влияние на русские авангардистские теории театра.
Поворотным событием в театральной жизни эпохи оказалась пьеса А.А. Блока «Балаганчик». Блок создал ее по настоянию Г.И. Чулкова, ближайшего сотрудника Вяч. Иванова, в русле нео-народнических намерений нести театр в массы (о собрании на ивановской «башне» по этому поводу 3 янв. 1906 г. см. Чулков 1921: 21; Блок 1960: 8.146). А Всеволод Мейерхольд, также находившийся под влиянием Иванова,2 дал ей в своей постановке современное театральное воплощение и т. о. способствовал ее утверждению в качестве шедевра элитарной культуры.