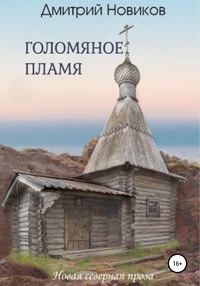Buch lesen: "Голомяное пламя"
Кто бороздит море, вступает в союз со счастьем,
ему принадлежит мир,
и он жнет, не сея, ибо море есть поле надежды
безымянный поморский крест на Груманте
Среди поколения «новых реалистов», ворвавшихся в литературу на рубеже веков и встреченных громкими приветствиями критиков и читателей, фигура Дмитрия Новикова держится особняком.
«Новые реалисты» пришли как поколение войны, писавшие о взбунтовавшемся Кавказе, о локальных конфликтах, о ломке молодых ветеранов, прямо с войны вернувшихся в лихие девяностые, – Новиков утверждал мирные будни, тишину северного осеннего леса, рыбалку на безмятежных карельских озерах.
«Новые реалисты» пришли как поколение действия: стачек и стычек, порывов и взрывов – Новиков практиковал созерцание, статику, замирание и любование – вот и принесший ему известность сборник рассказов назывался «Муха в янтаре» (2003).
«Новые реалисты» пришли как поколение безудержного автобиографизма; они творили миф о себе – исповедовались и каялись, как Роман Сенчин, либо выстраивали жесткую саморепрезентацию, как Захар Прилепин, – Новиков устранялся, отходил в тень, затушевывая авторский образ и предоставляя говорить своим героям…
Должно быть, именно поэтому там, где у Прилепина – экспрессивные «Ботинки, полные горячей водкой», у Новикова – «Муха в янтаре», эмблема замершей, зачарованной жизни; а там, где у Сенчина – безысходная «Зона затопления», у Новикова – «Голомяное пламя». Пламя, как дух Божий восстающее над холодными волнами Белого моря, которое по-карельски так и зовется: голомя.
Нет ничего в мире красивее, чем берег Белого моря. Словно медленный сладкий яд вливается в душу любого, увидевшего это светло-белесое небо, эту прозрачную, как из родника, воду. Это серое каменное щелье, покорно подставляющее волнам свое пологое тело и благодарно принимающее лестную ласку воды. Эти громыхающие пляжи, усыпанные сплошь арешником – круглым камнем, который море катает беспрестанно, шутит с ним, играет, и в результате – несмолкаемый ни на минуту грохот, и думаешь невольно – ну и шутки у тебя, батюшко. Эти подводные царства, колышущийся рай, пронизанный солнцем, как светлый женский ситец – весенним взглядом. Этот легкий ветер с запахом неземной, водной свежести и отваги, и каждый знает теперь, что такое свежесть и отвага. Этот пряный шум соснового леса и удирающий от берега трусливый бурый зверь, кисельно плескающий жирным огузком. Эта радость бескрайней дороги, свободного пути к жизни, к счастью, к смерти…
Нет в мире ничего страшнее, чем берег Белого моря. Бесстыжими пощечинами наотмашь бьет в лицо холодный ветер, несущий злые брызги дрязг и неудач. Мутная вода орет в глаза и душу о скором хаосе и бесполезности всего. До горизонта стлань полей из черной вязкой грязи – и, если в няшу ступишь, будет сложно жить. По берегам – кресты, огромные и серые, как напоминание. В лесах – кресты поменьше и поплоше, стыдливо прячущиеся в сырых лощинах. Безлюдье, забвение потомков. Седая мутность илистых одонков. И лишь зуек кричит просительно и жалобно, вставая на крыло, – уйди, уйди. Наверно, так кричит ребенок, не знающий еще – чужая злость непоправимой может сделать жизнь.
Нет в мире ничего пограничнее, чем берег Белого моря. Здесь всё рядом, близко, сцеплено неразрывно друг с другом – белое и черное, пьянство и честность, неистовость и покой. Здесь главная русская свобода, обещанием свободы попранная. Здесь смертельная красота. Здесь радость отчаяния. Здесь надежда. Здесь вера. Здесь любовь.
В сущности, новый роман Дмитрия Новикова – о вере и о любви.
Но, как и полагается, эта вера сначала должна быть потеряна, а любовь (Бога к людям, людей к природе, родных и близких – к друг другу… ряд можно продолжить) – поставлена под сомнение.
Это сомнение выражено в самой форме романа, лишенного линейного повествования и рассыпающегося под вспышками флэшбэков – то в предвоенную Кемь, то в дореволюционное село Кереть, то в далекий XVI век схимников и отшельников, то в тучные нулевые, когда потомки карельских рыбарей, охотников, охранников и зэков приезжают рыбачить на заповеданные озера. Как будто бы главный герой «Голомяного пламени» – как раз из этих потомков: Гриша, детский реаниматолог, былинный богатырь с рыжей окладистой бородой (в этом портрете, впрочем, угадывается внешность и самого автора)… Но речь здесь не только и даже не столько о Грише, сколько о человеческом пути к себе – сквозь историю, сквозь время, сквозь страшные и болезненные воспоминания. Путь к себе, водный путь – вот то сквозное начало, которое обеспечивает роману единство: и мятущийся Гриша, и его кряжистый и угрюмый дед Федор, и правильный Константин, и тихий местный святой старик Саввин – все они принадлежат Белому морю, все они вглядываются в таинственные голомя.
Так что же, Белое море, открытое море, его голомя – и есть главный герой?
Видимо, так. Тем более что на встречу с морем и на сражение с ним выходят в конце концов и дед, и внук, и Федор, и Гриша.
С фигурой Федора в романе связана некая гнетущая тайна. О ней не рассказывала даже бабка – «ни почему он был на пенсии размером с воробьиный хвост, ни почему, не дожидаясь похорон, пришли к ним в дом какие-то люди и забрали дедовы награды, все до одной, наперечет, по списку». Постепенно выясняется: дед, герой войны («Карельский фронт. Рядовой штрафного батальона. Шестнадцать разведок боем. Два ордена. Старший лейтенант. Потом капитан. Командир штрафного батальона. Контузия. Ранение…»), – из тех, кто сажал, раскулачивал и расстреливал, и этот след дедова преступления сразу ставит новиковский роман в стороне от тех семейных реквиемов, которые традиционно посвящены невинно погубленным и пострадавшим. В основе мира «Голомяного пламени» лежит преступление: когда тонула во время шторма баржа с ссыльными и люди – сильные поморы, заведомые «морезнатцы» – спасались, прыгая в воду и пытаясь доплыть до берега, именно Федор, крича «про предательство, про побег, про не простит страна», расстреливал ссыльных с баржи из пулемета…
Веером ложились на воду пули. И вода стала красной <…> Один за одним уходили в воду, в глубь ледовые кормчие. Один за одним исчезали там северные люди, сталь земли русской. И словно рыбины, сверкнув на глубине белизной, исчезали в морской воде. Будто семужья стая навсегда уходила от родных берегов, истерзанная злой непонятной силой <…> Яркая, тонущая небесная радуга легла на голомя и уходила вместе с жизнью и надеждой, вслед за рыбьим племенем, еще недавно бывшим людьми и от людского зла ушедшим.
И это – тот самый дед, который растит боязливого внука и открывает ему тайны моря и леса? Тот самый, что, раненый и контуженый, проходит с наградами всю войну? Тот самый, что всегда хотел «взять медведя»?
«Голомяное пламя» Новикова – роман-оксюморон. Природа, история, психология, человеческие отношения – всё в нем неоднозначно и зыбко, всё поворачивается к читателю то нестерпимым сиянием, то черной бездной. То ледяным провалом штормящего моря, то радугой, поднимающейся над утихшей водой. Не случайно сквозной образ романа – сравнение человека с рыбой, а сквозной сюжет – рыбная ловля, цепочка хлестких, метафорических, завораживающих сцен, в каждой из которых любовь оказывается слита с гибелью, нежность – со зверством, а самая смерть северных дорогих рыб – с могучей энергией утверждения жизни, прорывающейся при каждом ударе рыбьего мощного тела о водную гладь.
Все эти рыболовные эпизоды выписаны Новиковым с нескрываемым наслаждением, которое, разумеется, тут же передается читателю, заставляя его затаив дыхание следить не только за «рыбьей» символикой и метафорикой, но и за вполне конкретными подробностями рыбацкой охоты. Вот человек оказывается сцеплен с гладким огромным налимом крючком-тройником. Вот под грозовым ливнем вытаскивает из воды серебристую «семушку, тиндочку, морскую косулю». Вот начинается «щучий жор». Вот стадо семги идет на нерест, и никакие сети, никакие человеческие уловки не останавливают ее. Вот аквариумный сомик, шевеля большим ртом:
«Вот-там, от-ман…», – предупреждает мальчика Гришу о подступающей мерзости взрослого мира…
Сцена насилия над мальчиком, как и сцена спасения героя от алкогольной интоксикации, дана в протокольном духе «нового реализма», как будто бы контрастируя с экспрессионистской манерой исполнения «беломорских» глав. Но вот что интересно: у любого другого эта сцена стала бы кульминационной, смыслообразующей, доказывающей тотальный распад мира и неизбежную катастрофу героя. У Новикова же эта сцена – одна из многих, наряду с расстрелом ссыльных на барже или убийством матерого лося медведем – во время гона. Да, преступления Федора рикошетом ударяют по Грише, но Гриша после этого поднимается и становится детским реаниматологом. Мы убиваем, нас убивают. Убитая рыба дарит рыбакам ощущение остроты и пронзительного вкуса жизни. Над ледяными волнами вспыхивает пламя радуги. На берегу Белого моря, меж затерявшимися в перелесках скитами, Грише и его брату является черт. Голомя грозят смертью, но только соприкоснувшись с этой стихией, можно вернуть себе желание жить. Отсюда и метафорика рыбной ловли – одновременно прозрачная и насыщенная, прямолинейная и изощренная, уже ожидаемая от Новикова – и все равно непредсказуемая в каждой сцене:
Даже когда я ловил и убивал ее, я любил. Я любил распластать ее серебряное тело на прибрежных камнях и черевить его медленно и обстоятельно – и внутри она была так же прекрасна, как снаружи. Ярко-оранжевое мясо ее, перламутровые внутренности, всегда пустой желудок (на нересте она не ест) – иногда мне казалось, что все это лишь прекрасные телесные муляжи, прилагаемые к высшему духу красоты, который она гордо несла в себе. Я любил ее запах – она пахла не рыбой, не морем, не жиром, – она пахла собой, жизнью, прыжками своими, яростным взлетом в небо. Изменой морю она пахла…
«Голомяное пламя» пахнет кровью и морем, современностью и историей. По сути, голомя, где можно сгинуть, а можно и спастись, – это и есть наша история, история России (не только) XX века. И где, как не на Белом море – на побережье древних скитов и советских лагерей, – вспомнить об этом и это принять?
Елена Погорелая
Я очень рад был редкой книге, подаренной на днях моим знакомым Гришей, имевшим внешность русского богатыря – высокий рост, рыжие кудри, окладистая борода. Гриша работал врачом-реаниматологом в детской больнице. А еще он сочинял и пел пронзительные, заразные песни, от которых увлажнялись глаза даже у суровых северных мужчин. Книгу эту он принес мне в благодарность за несколько подсказанных маршрутов по берегам Белого моря, куда он хотел съездить полечить душу, по его выражению.
Тяжелый темно-синий том был приятен рукам и глазу. Золотом тисненое название тоже радовало. «Словарь живого поморского языка». Вообще, я люблю словари. Из них можно много нового узнать, не то что из каких-нибудь романов. Опять же, история создателя его, Ивана Дурова, привлекла меня. Уроженец древнего поморского села Сумской Посад, он был самоучкой. Увлекся изучением поморской говори, стал собирать пословицы, обряды, поговорки. Занимался этим пять лет, собрал словарь, отослал в Академию наук. И через несколько лет был расстрелян в карельском местечке Сандармох, что близ Беломорканала, по «делу краеведов». Рукопись восемьдесят лет пролежала в архивах и только недавно была найдена и издана. Ценный подарок.
Гриша много и восторженно рассказывал о походах по подсказанным мною местам. «Доброй ты целовек», – благодарил он, наслушавшись поморской речи. Живописал Белое море, северные реки, поля можжевельника.
А мне тогда вспомнились слова моей карельской бабки. «Можжевела – дерево смерти», – она говорила…
1975, п. Пряжа
Самое страшное было – смотреть на него сзади, когда спина голая. Рука, лопатка, плечо – три дыры. Затянувшиеся, зажившие, но не шрамы, а дыры. Гриша спрашивать боялся, а сам дед никогда не рассказывал. Но и так было ясно, что автомат, и что в спину, и что выжить было нереально. Дед выжил. Только ходил теперь медленно и страшно кашлял по ночам. Так громко и хрипло, будто рассерженный, умирающий лев где-нибудь в африканской темноте, и Гриша часто просыпался, и спине было зябко и ежко – так и лежал целую вечность, не смея пошевельнуться и затаив дыхание. Потом дед замолкал, тогда потихоньку засыпал и Гриша, кутая нос в бабушкино одеяло.
Пахло оно непривычно и терпко. Вообще весь дом пропитан был запахами какой-то другой, забытой жизни – быстро кидающимися в нос, чуть только войдешь с улицы, и заставляющими невольно задумываться, вспоминать – что значит каждый. Вот этот, теплый, сухой, немного пыльный, известчатый – русская печка. Не под ее – откуда всегда тянуло вкусной едой – блины ли, уха или жареная картошка, а верх, который так и назывался – «напечь». «Не лазьте напечь», – бабушка не ругалась, а так, на всякий случай говорила, чтобы кто-нибудь из многочисленной детворы мал мала не сверзился оттуда. Гриша был самым старшим из этой мелюзги и потому ответственным за всех. «Напечь» была застелена старыми желтыми газетами, поверх них лежали какие-то шкуры. Одна, он точно знал, – дикого кабана, с длинным жестким ворсом и желтой пряной мездрой. Шкурой можно было пугать младших, когда те, не зная удержу, оголтело бесились часы напролет. Другие – мирные домашние овчины, мягкие и какие-то беззащитные. Всё это – теплая печь, крашенная белой сыпучей известкой, старые газеты, дикий кабан, послушные овцы – переплеталось, накладывалось друг на друга и давало тот запах деревенского дома, который навсегда застрял в носу, и стоило через много лет вспомнить о детстве – он сразу явственно возникал, щемящий и сложный.
Печь была бабушкой. С запахом, с теплотой, со вкусом еды, которая постоянно томилась в теплом чреве ее, в огромных черных чугунах – неземная тайна была в их появлении из яростной, багровой преисподней – их ухватывали рогатыми ухватами. С крепким и тягуче-сладким, через каждый час, чаем из темного, закопченного чайника, который позже сменился блестящим, электрическим – и чаепития еще участились. Черный хлеб, политый постным маслом и посыпанный крупной солью, белый батон с сахарным песком – эти яства тоже были бабушкой.
Дедом был чулан. Небольшой, темный, сразу налево после входа в дом, напротив кухни. Даже не чулан, а большой шкаф, завешенный тряпичной занавеской. Там стояли ружья. Туда Гриша забирался один, не пуская никого из малышни, и долго сидел в темноте, трогая холодный металл стволов и гладкое дерево прикладов. Они тоже пахли, ружья. Пахли опасно и тревожно. И зовуще, с какой-то мужественной ласковостью, с какой-то конечной ответственностью. Гриша сразу ощущал себя много старше, когда осторожно взводил курок, медленно потом нажимал на спуск. Боек сухо щелкал, и если в доме был кто из взрослых, особенно дед или дядья, то сразу начинали ругаться, говорить, чтоб не баловался. Еще в шкафу висела лесная одежда. Запах ее был похож на запах кабаньей шкуры, такой же дикий, но с металлической, искусственной отдушкой. И сразу выстраивалось родство их – одежды, ружей, шкуры кабана. Сразу становилось понятно, как и зачем всё было – опасность, настороженность, азарт, выстрел, короткий взвизг, сучение ног, длинный нож в руках. Сухие листья под телом. Горячая кровь, которую жадно пьет осенняя земля. Чулан был дедом. Еще в нем висела шинель.
Вообще, в доме было много военного. Фотографии в альбоме, где дед – бравый лейтенант в кителе, с боевыми орденами. Гриша тогда уже знал, что Красная Звезда и Боевое Красное Знамя – ордена настоящие, заслуженные. Гордые. Они лежали в красных коробочках в верхнем ящике комода, и Гриша часто тайком доставал их и гладил пальцами лаковую поверхность. Особенно нравилось ему, что крепились они к одежде не игольчатой застежкой, как какие-нибудь несерьезные значки, а уверенной, мощной закруткой, чтоб если и вырвать, то только с большим куском одежды и сердца. Дед никогда не рассказывал про войну, не разрешал играть с орденами. Он не ругался, но умел так посмотреть, что сразу холодел затылок и хотелось быть послушным. Еще во втором ящике комода, запертом на ключ, хранились патроны. Иногда ему разрешали смотреть, как дед с дядьями собираются на охоту. Тогда они доставали из этого ящика восхитительные гильзы, блестящие драгоценные капсюли, дробь разных номеров, смешные пыжи, раскладывали всё это на полу, на аккуратно расстеленной газете, садились рядом и начинали понятное, но вместе с тем таинственное дело. Забивали капсюли в гильзы, сыпали порох, потом вставляли тонкую картонную прокладку, плотно забивали толстый пыж, после закладывали дробь. Вставляли еще одну прокладку, завальцовывали гильзу. Иногда вместо дроби в гильзу помещалась пуля – часто по-смешному круглая, реже – опасная, с острым носиком. Так у них ловко и быстро всё получалось, что Гриша налюбоваться не мог. Всё это они делали по очереди, каждый свое, и весь процесс сливался в четкую, простую гармонию ружейной радости. Руки сами тянулись помочь, но ему лишь позволяли поиграть с дробью да редко перепадала закатившаяся в щель пуля. Еще были шомпола со щеточками, и взрослые чистили стволы своих ружей, смазывали их темным маслом, заглядывали внутрь на просвет и удовлетворенно откладывали в сторону. Во всём этом виден был строгий обычай, ритуал, и главным здесь опять был дед. Бывало, что кто-нибудь из дядьев выбивался из отлаженного ритма, отвлекался, неловко шевелил пальцами, тогда дед не боялся взрослых огромных мужиков подгонять увесистыми подзатыльниками. Было шутливо – улыбались, всерьез – не смели слова в ответ сказать, лишь головы наклоняли ниже да сопели старательней.
Отец Гришин никогда не притрагивался к оружию и припасам. Говорил, что жалеет животных. Он был самым старшим из сыновей и рано уехал жить в город. Сидел, наблюдал за ловкими пальцами братьев и деда, но не брал в руки ничего из волнующих, заманчивых предметов. Дед посматривал на него с непонятной усмешкой, словно знал что-то такое, чего другим не узнать ни с возрастом, ни с мирным опытом. Мирный опыт – опыт жизни. Дед знал другое.
Отец тоже помнил. Младшие сестры и братья – нет.
Фамилия бабушки до замужества была Власова. Обычная фамилия, полдеревни было таких. Это потом век расставил всё по местам, и стали одни почитаемы, Ульяновы какие-нибудь, другие сделались врагами. А как разобраться, как понять, что даже свежее веяние может нести в себе гнилые пороки. Законам человеческим тысячелетия срок, а быстрое счастье для всех настолько скоро превращается в страшную противоположность свою, что жизни человеческой может хватить, чтобы увидеть все стадии сладостного процесса – от задора молодых до тупого отчаянья старых. В середине же – злая воля зрелых, еще уверенных, но уже бесстыжих. Это назовется бесовским словом «диалектика», но как понять его без опыта и Бога? А понимать нужно было всем. Нужно было и Гришиному деду.
Думать тяжело – это Гриша тоже понял, когда повзрослел. А в юности, в молодости – куда как просто, есть чувственность и злость, и злое зрение отважно указует на врагов. Их много, привыкшие к оружью руки знают это.
Были крик и детский плач. Дед был не дед, а молодой герой. Израненный и жесткий. Когда вдруг что-то возразила бабка, не бабка тоже, а мать и молодая некрасивая жена, уже родившая к тому времени пятерых. Возразила, а может, по-карельски что сказала. Он запрещал ей – мы интернационалисты по воле нужд советских. Когда возразила непослушно, или на языке непонятном сказала что, может, ругнулась на святое, поплыло всё перед глазами от бешенства. От ярости запрыгал пульс аорты. Всё вспомнилось – чужие раньше крики, сиротский хлеб, на море шторм и волны, грудь свою о скалы рвущие. Доверие к отцам и командирам. Предательство и три дыры в спине. Всё вспомнилось и захлестнуло. И по камням поволокло. Схватил ружье и крикнул этой стерве – пошла на огород, вражина. Ревмя орали дети, ублюдки, выродки, враги. Чужого корня стебли. Не русского. Почти что финны.
– Пошла быстрей, расстреливать буду, власовцы поганые! – так крикнул, уши заложило у самого. Замолкли дети, испугались сильно. Лишь старший носом шмыгал незаметно, чуть дыша. Она стояла на земле, на пашне. Босая. На руках – двое маленьких. Двое средних прижались к ногам. Первенец чуть в стороне. Все стояли и глядели на него. Молча. Ружье плясало в руках. Ненависть плясала в голове. Полностью заполнив ее. Вытеснив всё остальное. Потом пошел дождь. Крупные капли стали падать на землю, на белые головы, на грязные ноги. Там, где падала капля, он ясно видел – исчезала земная грязь и ярким розовым кружком на ногах начинала светиться живая кожа. Детская и взрослая. Родная.
Холодные ручьи потекли по лицу, по плечам, за шиворот. Он задрожал и бросил в грязь ружье. До крохотной песчины вдруг сжалась ненависть в голове, и та загудела, как старый колокол. Он повернулся, шатаясь, побежал в дом. Следом за ним рванулся старший: «Папка, не плачь!»
Дом стоял на невысоком косогоре, над речкой. Вообще это была даже не речка, а ручей, сильно заросший ивняком, осокой, весело журчащий меж камней и средь корней деревьев, порой полностью ими скрытый. Перепрыгивая с одного большого камня на другой, его можно было пересечь полностью. Мешал страх. Чуть из вида скрывался за тонкими стволами ближний к дому берег, как настоящие джунгли обступали Гришу со всех сторон. Смолкали крики птиц. Лишь таинственно шелестела ива своими узкими листьями, и шелест этот был тоже какой-то узкий и опасный. Страх вместе с неодолимой силой, заставлявшей двигаться дальше и дальше, делал чары ручья пряными и чистыми, словно запах отмерзшей земли. Да он и пах так, ручей, – влажной землей с корней деревьев и кустов, журчащей светлой водой, мокрым мхом камней. Гриша часами мог наблюдать за его жизнью. Следил за юркими мальками в стройных струях, искал ручейников в их домах-палочках, влюблялся в прекрасных лягушек, смышлено снующих повсюду. Один раз ручей подарил ему настоящего зверя. Мальчик тогда сделал всего несколько прыжков по камням, еще знакомым его ногам (дальше лежали незнакомые и опасные, падением в воду пугающие), и увидел зверя. Небольшой, темно-коричневый, с острой мордочкой и круглыми ушами. Он был совсем рядом, в двух метрах. Гриша замер. Зверь недовольно ощерился и фыркнул. Укололи взгляд белые иглы зубов. Рядом на камне лежала растерзанная птица. Вернее, и птицы уже никакой не было, веер перьев и несколько капель крови на шершавой серой поверхности дикой столешницы. Секунду зверь стоял, прикидывая силы, затем повернулся и текуче, беззвучно исчез в высокой траве. Лишь длинный хвост змеей скользнул за ним. Так странно это было – страшно и притягательно, навязчиво и сильно. Словно и сам Гриша был немного этим зверем, словно сам он скользил сквозь траву и наслаждался добычей. Словно сам он сладко убивал. Гриша начал дышать через минуту. Еще через одну повернулся и на дрожащих ногах попрыгал до знакомого берега. Промчался мимо дедовой бани. Набирая скорость, пронесся по сладко пружинящим доскам, проложенным через болотистую полянку к дому. Влетел туда и закричал отцу: «Зверь, зверь! Видел! Коричневый! Ел птицу!»
«Наверное, норка, – равнодушно сказал отец. – Со зверофермы сбежала».
Баня стояла на самом берегу ручья, шаг – и вода. Чуть подальше, меж двух камней, была глубокая, по грудь взрослого, протока, куда после парилки можно было прыгать, утробно хохоча. Вообще, суббота, банный день, была праздником. Баню топили с утра. Грише разрешали следить за огнем, и он, гордый своей взрослой обязанностью, таскал дрова, подкладывал их в шумящую печь, потом закрывал тяжелую чугунную дверцу и внимательно следил, чтобы ни один уголек не дай бог не вывалился из раскаленного зева. Следить было тяжело, жарко, позже – почти невозможно, он часто выскакивал на берег ручья и жадно, глубоко дышал вдвойне вкусным после жара воздухом, словно глупая рыба, попавшаяся на крючок и решившая напоследок надышаться вволю. Иногда к нему приходила бабушка – посмотреть, как он справляется. Гладила по голове со своим извечным: «А-вой-вой, совсем ребенка замучили», совала в руку кусок сахара. Хорошо было, когда сахар был каменный, твердый, еле сосущийся. Гораздо хуже, когда прессованный рафинад, он мгновенно растворялся во рту, оставляя вкус неудовлетворенности и скоротечности.
К обеду начинали подходить родственники, дядья и тетки с семьями. В доме, а особенно во дворе становилось шумно, начинала бегать обрадованная встречей детвора. Гриша, гордый своим делом, смотрел на малышню снисходительно. Лишь когда приходил Серега, он позволял себе расслабиться, потому что тот сразу принимался помогать. Сереге было столько же лет, как Грише, но отец объяснил, что тот ему приходится двоюродным дядей. Гришу это неприятно удивило, но дядя ничуть не заносился. Они стали дружить.
Он был странный, Серега. Какой-то слишком добрый. Всепрощающий. Как-то мчался вприпрыжку через поляну между баней и домом. И хищно налетел на него пасшийся невдалеке баран. Два раза поддал в спину крутолобою башкой, затем прижал к забору и держал. Серега слабыми ладошками пытался оттолкнуть его голову, но тот лишь напористо мотал ею, всё крепче прижимая к доскам, под ребра. Серега уже начал тяжело дышать, но когда Гриша схватил толстую палку, закричал:
– Не надо, ему будет больно!
Так и стояли в опасном прижиме, пока барану не надоела слабость жертвы и он не ушел сам. А после не было у Сереги мысли хотя бы камнем издали обидеть наглеца.
Еще он очень любил птиц. Часами мог смотреть, как парит в воздухе, в высоком синем воздухе большая птица, на расстоянии становившаяся маленькой птахой. Днями возился с голубями, таскал их за пазухой, шептался с ними. Таких, как он, легко принимает алкоголь. Они не имеют сил сопротивляться его мощному, стремительному течению. Лет через двадцать, после месячного слезливого запоя, он повесился на бельевой веревке, и на его могиле всегда были крошки хлеба, крестики-следы и легкий птичий пух, запутавшийся в высокой, бестолковой траве.
Париться начинали за пару часов до ужина. Сначала в баню шли женщины. Возглавляла их вереницу всегда бабушка, и было смешно смотреть, как она, важно, по-утиному переваливаясь с ноги на ногу, ведет за собой стайку присмиревших молодух. «А-вой-вой, натопили как, нельзя зайти», – доносился из бани ее радостный голос, и Гриша с Серегой довольно переглядывались – это была похвала им.
Женщины парились недолго, по первому пару было тяжело. Уже через час они в таком же порядке возвращались в дом. Головы их, обмотанные мокрыми полотенцами, раскрасневшиеся лица, плавные, томные движения были наполнены какими-то редкими, даже странными неторопливостью и спокойствием. Какой-то мудростью и отрешенностью. Какой-то стойкой покорностью. Это было недолго. Едва войдя в дом, они начинали суетиться, бегать, готовить ужин. Бабушка командовала, но не напористо, жестко, а мягко и с юмором. Тут и там доносилось ее жалобное «а-вой-вой», одновременно жалевшее и подгонявшее нерасторопных неумех.
Мужики шли, когда баня уже сама была как печь. Неистово-красный жар раскаленных углей таился в кирпичной глубине, тихо и опасно вздыхая. Закрывали вьюшку. Становилось невозможно дышать. Невозможно жить. Мутилось в голове, и хотелось выскочить на волю. Подгибались ноги, и казалось, что наступил тот край, за который – только лежа. Но дед или отец легонько подталкивали Гришу, заставляя залезть на полок. Доски были горячи до солоности во рту. Сидеть невозможно, казалось – ягодицы сейчас заискрятся и вспыхнут тяжелым, влажным пламенем. Гриша подкладывал под себя кисти рук – ладони терпели лучше. Только он потихоньку устраивался, только начинал оживать и оглядываться, как дед открывал дверцу каменки и, кивком предупредив остальных, ухал в черный зев полковша кипятку. Внутри раздавался взрыв, и яростный бесцветный пар вырывался наружу, сметая на пути всё живое. Уши, ноздри, ногти закусывало раскаленными клещами ослепительной боли, Гриша визжал и пытался удрать, спрыгнув с полка и прорвавшись между взрослых тел. Дед был начеку. Он быстро прихватывал Гришу за предплечье, ловким движением укладывал на живот и начинал хлестать готовым уже, заранее запаренным веником. Гриша кричал и брыкался. Спина горела, было нечем дышать, в голове роились разноцветные шары. «Терпи, сиг, терпи, залётка», – приговаривал дед серьезно, но где-то глубоко слышалась усмешка. Грише казалось, что наступил предел, что кончилась его маленькая жизнь, но дед поддавал еще пару и прорабатывал ему живот, грудь, плечи. Потом отпускал. Гришу подхватывал отец, ставил на пол. Дед брал ведро холодной воды и окатывал внука с головы до ног. Мгновенный острый холод на сиятельный жар, жидкая тяжелая жизнь на раскаленную смерть заставляли Гришу приседать, словно сверху ложилась на него благословляющая длань. После этого он, удивляя себя и вызывая смех у других, выпрямлялся на дрожащих ногах и как-то по-взрослому крякал. Дед заворачивал его в простыню и выносил в предбанник. «Что, залетка, хорошо?» – спрашивал и нырял обратно в ад. Гриша сидел, жадно пил воду из большой алюминиевой кружки, слушал крики и секущие удары из бани. В голове было пусто и прекрасно, словно в чистой скорлупе яйца. Тело пело. Душа трепетала внутри.
Спину деда он впервые увидел тоже в бане…