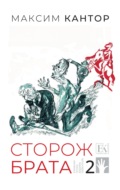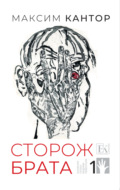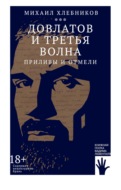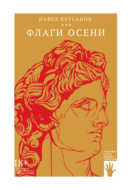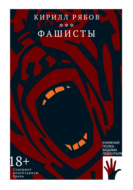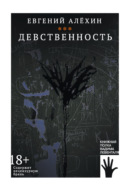Buch lesen: "Ост-фронт. Новый век русского сериала"
© Д. Горелов, 2024
© ООО «Евразийское книжное агентство», 2024
© П. Лосев, оформление, 2024
Нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны.
Илья Ильф, Евгений Петров
Благодарности
Сунгоркину Владимиру Николаевичу – бессменному навигатору «Комсомольской правды», который однажды деловито спросил: «Что предложишь?» и две минуты слушал резюме, что кино полного метра омолодилось до полных слюнявчиков и вышло из зоны общественного интереса, а сериалы наоборот (как и в мире в целом). Подумав, сказал: «Первый текст через неделю, мне». Читал все сам, вмешивался не чаще раза в квартал, до августа-2022. Книжка сложена из еженедельных рецензий в «КП» с 2018 по 2023 год. Последний – уже без В.Н.
Пежемскому Максиму Гелиевичу – другу и мирознатцу, который годами убеждал, что кино больше не актуально, а весь ум в сериалах, – и дожал-таки. В книге среди прочих – рецензии на его «Женское дело» и «Проект „Анна Николаевна“».
Жигунову Сергею Викторовичу – продюсеру кино и фестивалей, который однажды предложил собирать программу сериальского феста в Южно-Сахалинске. Смотр усоп от ковида, но привычка ежегодно выделять из кинопотока 12 лучших сериалов и 4 в резерв – осталась.
Садкову Павлу Петровичу – редактору телеотдела «Комсомольской правды». Что брать, что не брать в работу, все 5 лет решаем вдвоем. Некоторые жемчужины телерынка здесь – исключительно с его подачи («Невеста комдива», скажем). Ошиблись единожды. В книге нет рецензии на «Большую секунду» Виктора Шамирова, и этого нам потомки не простят никогда.
Клушанцевой Ирине Дмитриевне – по-прежнему жене, которая годами наблюдает мужа у монитора в наушниках военного преступника с Нюрнбергского трибунала. 8 серий х 50 минут – не шутка. Не каждая такое выдержит.
В тексте упоминаются Википедия, Инстаграм, Фейсбук и геи – мы их экстремизма не одобряем. Наркотики же, упоминаемые еще чаще, – как всем известно, приносят вред. И только сериалы о них – пользу, ибо сняты с твердых позиций Госнаркоконтроля. Чрезмерное же употребление алкоголя нами категорически осуждается, хотя и случается со всеми. Но мы стараемся свести эти постыдные случаи к минимуму. Правда, жены говорят, что врем, но они пристрастны.
Автор, редактор
Часть 1. До нашей эры
Империя: от чистого истока до Александра Освободителя
За редчайшим исключением («Достоевский», «Раскол»), праисторические времена сняты в жанре комикса – иногда откровенного («Великая» с летящим сверху медведем), иногда аккуратно подозреваемого («Годунов»).
Древний имперский мир стал байкой о золоте, принцессах и разбойниках и иным, очевидно, уже не будет.
БГ, от которого сияние исходит
«Годунов», 2018. Реж. Алексей Андрианов
Годуновскую харизму сгубил Пушкин.
Вина перед народной мифологией и исторической беллетристикой – его.
Так-то одиссея безродного чернеца, умом и хитростью занявшего трон, приструнившего знать и правившего для средних веков разумно, честно и милостиво, была бы чистой конфетой для новых демократических времен и камнем в фундамент национального самоуважения.
Но одним прокурорским вопросом Сан Сергеич кроет царя Бориса, как Жеглов Груздева пистолетом «байярд»: «А кто-кто у нас мальчика Митю зарезал?» Вопрос этот бьет поддых, лишая благонамеренных летописцев опоры и гладкописи, а прогрессистам вручая аргумент-кистень об изначальной порочности любого самодержавного правления.
Для консерваторов Годунов – предтеча всеславного и во гневе умеренного дома Романовых. Для всечеловеков – символ темного русского средневековья с недвусмысленными кивками на сегодняшний день. На чьей стороне авторы сериала – видно уже по зачинному посвящению Станиславу Говорухину: имя покойного просвещенного государственника гарантирует оценку былого исключительно с позиций национального интереса, а не общегуманного императива переходного периода.
Еще более обнажает замысел канала-производителя приглашение на постановку своего давнего протеже Алексея Андрианова. «Шпионом» (2012) по мотивам Акунина1 он показал, что, кажется, один в стране способен творить не просто величавый, а обаятельнейший государственный миф с оттенком байки: мол, не любо – не слушай, а врать не мешай (в фильме Белый Царь генералиссимус Сталин вершит государевы дела в куполе так и не построенного исполинского Дома Советов, на уровне облаков, – ясно, что у Акунина о том и словом не поминалось). Только его лукавому дарованию (разумеется, в паре со сценаристом Тилькиным) дано преодолеть вековечное проклятие русской истории – отсутствие ее массовой авантюрной, сугубо народной версии.
Нет у нас Дюма и Стивенсона.
Нет Вальтера Скотта и Эжена Сю.
И Конан Дойля с «Похождениями бригадира Жерара».
Один Пикуль, да и тот целиком в осьмнадцатом веке.
Миссию первооткрывателя извилистой, легкой, архиинтересной истории дворцовых интриг принуждено взять на себя современное сериальное производство. Не так важно гордиться своей историей (она длинная, всякое бывало) – сколько не рассматривать ее как один мрачный пыточный подвал. Был и подвал – а у кого их не было, нет, скажите, я жду! И темь от малых окошек: стекол-то еще не изобрели. Но и престольные праздники с пиром-благодатью, и церква-росписи, и шпаги-кони, и брусника моченая. Создать приемлемый образ старины глубокой, не впадая в ересь скоморошьего лубка, сегодня первостепенная задача национального художества, и исполнить соцзаказ взялась презренная, зато богатая десятая муза.
С ролью Дюма Тилькин и Андрианов справляются на пять. Каждая серия представляет собой историю разгрома Борисом очередного боярского злоумышления против трона и за этот самый трон. Переигрыванья польских и английских притязаний. Ловкого строения и расстроения нужных и ненужных государству браков. Доказательство, что хранить державный интерес можно и без инквизиции, умом и интригой, пером, а не топором. А тему убиенного царевича авторы искусно задвигают в конец первого сезона – уже окончательно влюбив нацию в премудроковарного Леля Бориса сына Годунова (как народ смотрит кинороман – видно по длине рекламных пауз).
Деланая кротость с предерзким взглядом исподлобья, моментальный обсчет ситуации мозгом шахматиста, обманчивый наивняк и усмешливое развенчание чужой гордыни сыграны Сергеем Безруковым в наилучших традициях Саши Белого (простодушие у него выходит хуже, клыки видать, – да здесь простодушия нет и в помине). Неотразимо куражится и юродствует в роли Малюты Виктор Иванович Сухоруков. Вредный старик Грозный в исполнении Маковецкого неожидан и тем хорош. Отказавшись от Михаила Ефремова, Александра Баширова и отца Иоанна Охлобыстина (типажно вполне созвучных веку), авторы явно дали понять, что лишней потехи-комедии им в сюжете не надобно. А Федор Бондарчук уже играл царевича в фильме отца в 1986-м (там Сергей Федорович в заглавной роли возлагал на сына-отрока царские бармы и мономашью шапку и как в воду глядел: все сбылось).
Что до намеков на день сегодняшний – так не одной оппозиции сей прием ведом. Царь Борис начинал в охранке у Малюты. Давил со сподвижниками мздоимство и боярскую корысть, аукнувшиеся в новейшие времена словом «семибанкирщина». Лично выходил под пики стрелецкого мятежа, вразумляя смуту твердым словом, – точь-в-точь как небезызвестный офицер берлинской резидентуры при попытках немецкой черни погромить архивы спецслужб. Есть что вспомнить и запараллелить и государственникам.
Авторы добились главного, обратив русские средние века, постоянно изображаемые царством страха и криводушия, сонмом юродивых с мольбой о копеечке, – в увлекательное, азартное, а то и общеполезное дело по установлению не только самодержавной власти, но и многоуровневой системы управления гигантским государством.
А здесь и национальному гению слово:
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро.
Это, между прочим, из того же самого «Бориса Годунова».
Сцена «Келья в Чудовом монастыре», стих двенадцатый.
Так-то я мужик не злобный —
Но с вредителями строг
«Грозный», 2020. Реж. Алексей Андрианов2
Великим злодеям надобны соразмерные исполнители.
Внутри погубителей тысяч и миллионов пышет адово пламя – а такое абы кто не сыграет.
Оттого столь краток век любого фильма о Сталине, Гитлере, Нероне и Чингисхане, что доктрина демократических времен требует их максимально унизить, измельчить и заземлить, а всего сподручней это с помощью артистов второсортной антрепризы.
Единственный мегазлодей, кому век даровал почтение, есть мифологизированный до сказочной карлы Ричард III – и то потому, что в глазах масс он более не реальное лицо, а шекспировская выдумка. Затем и дарят его своим исполнением сэр Лоренс Оливье, сэр Иен Маккеллен и Его превосходительство Михаил Александрович Ульянов.
Грозному в этом отношении свезло: с Ричардом он разошелся правлением всего-то лет на семьдесят – отчего тоже сделался праисторической полулегендой. А значит, и его уже можно доверить большим исполнителям; и челядь его, и жертв, и верных оглоедов-опричников. Причем если Эйзенштейн в классической постановке о Грозном компенсировал недостаток дарования своих артистов (Черкасова, к примеру3) нижней подсветкой и сполохами близкого пламени в глазных белках – на этот раз Сергею Маковецкому (Иван), Виктору Сухорукову (Малюта), Никите Панфилову (Челяднин), Александру Яценко (царь в юности) пришлось работать самим, без режиссерских подпорок.
Мысль разделить роль Ивана меж двумя сильными артистами соответствует подходу светил исторической науки. За время правления Грозный-царь объединил страну, убил брата, нагнул татар, утопил тетку, поощрял книгопечатание, сжил со свету пастырей, учредил регулярное войско и извел под корень боярскую думу (ее б и не жаль – кабы вместе с ней не шли под нож целые вотчины и забуревший Новгород). Карамзин считал раннего, податливого влиянию просветителей Грозного безусловным прогрессистом, который после боярских козней слетел с катушек и перешел на темную сторону силы (идею царя-оборотня, карточного перевертыша как раз и воплотил Эйзенштейн). Неустойчивый, подвластный воображению характер государя отмечали все хроникеры – и Александр Яценко, известный ролями слабосильных духом, неуравновешенных самодуров, играет перманентное смятение довольно молодого монарха у истоков нашего всего: исконной вражды с Польшей, взаиморастворения с Азией, террора против самовитых регионов и неизменного для сильных правителей неустройства в семье; всех вызовов мономашьей шапки, с которой многомудрый Эйзенштейн начал свою картину.
В момент перерождения роль отходит к Маковецкому, который если и играл раньше упырей, так только у Балабанова – да кто ж у Балабанова упырей не играл?
Достоверных сведений о нем слишком мало, чтоб понять все, и слишком много, чтоб нести уж совсем беллетризованную околесицу. Боярский заговор то ли был, то ли привиделся. Неугодного думе младенца-царевича то ли утопили, то ли сам усоп от недосмотра и негодного состояния медицины. Отравление царицы Анастасии ныне установлено доподлинно – но кому она сдалась при столь малом участии в государевых делах, существовании наследников и великих рисках царева гнева, так до сих пор и неведомо.
Зато ясно, что без Алексея Андрианова, мастера самых убедительных исторических мотивировок, похожих на правду бытовых допусков и по-эйзенштейновски возведенных в исторический факт лукавых домыслов, постановка состояться не могла. Ради обострения конфликта он воспользовался самыми радикальными версиями событий. По их со сценаристом Эзугбая гипотезе, царица выпила яд, предназначенный Курбскому, когда подозрительный царь велел им сменяться кубками. Царевич был утоплен по наущению царевой тетки Ефросиньи Старицкой, известной ненавистницы Ивановой ветви. Бояре, как обычно, мерялись высокородием, злоумышляли против объединителя и к моменту схода Ивана с резьбы успели наворотить такого, что меркнут все деяния троцкистско-зиновьевской шайки наймитов и двурушников. Было отчего взъяриться. Четыре финальные серии сплошного карнавала смертоубийства затмевают предыдущие – так же, как нон-стоп-вакханалия второй части эйзенштейновской эпопеи обнуляет первую.
А дальше уже придется признать предельную киногению ритмичного и деловитого серийного террора. На том стоят все гангстерские саги, эпопея «Битва за Алжир» и помянутый «Ричард III» – а теперь вот и «Грозный», 2-я часть. Наверно, это грех, но от вида Ивановых четок, перебираемых с мыслью, кого б еще прибить, лиходейских эскадронов с царева крыльца до опального дворца, совместных трапез убийц и назначенных к закланию бояр с рассадкой через одного – оторваться невозможно.
В фильме после таких признаний крестились.
Лют православный
«Раскол», 2011. Реж. Николай Досталь
Отуреченный Константинополь следует признать самым адовым искушением русского мира и русского космоса. За омывающий его Босфор империя ввязалась в Первую мировую, стоившую нам двух миллионов душ и разрушительной революции. На Константинополь с огромными жертвами шли войска в последнюю русско-турецкую войну, принесшую суверенитет болгарам, – народу воистину подлому и выступившему против нас во всех конфликтах XX века. Наконец, идея переноса центра православия из Константинополя в Москву побудила РПЦ к унификации русского богослужения с греческим (и, кстати, украинским) – что ввергло страну в трехсотлетний раскол и, считая гари, Соловецкую осаду и массовые репрессии уровня святой инквизиции, – первую полноценную гражданскую войну. Химера православного братства с доминантой Москвы массово губила русский люд задолго до аналогичной коммунистической.
Немудрено, что раскол столетиями был в нашей литературе, а затем и кино трефной темой – до такой степени, что в вики-статьях «Раскол в культуре», «Аввакум в культуре» значится единственная строчка – этот самый фильм 2011 года. Троеперстие, где огнем, где уговором, укоренилось. Чаемое объединение православных под началом Москвы не состоялось. Зато старообрядцы обрели славу мучеников за веру и – пуще того – неофициальную канонизацию: сколь ни чести Аввакума с кафедр, а он посвятей многих признанных святых. Милостивый к проигравшим В. И. Суриков (Меншиков в изгнании, стрелецкая казнь, альпийское отступление Суворова) избрал моделью своей фрески не Никона, а опальную боярыню Морозову. Так что любая аутентичная хроника раскола не сулила РПЦ никаких выгод – а свирепство патриаршьей цензуры в профессиональных кинокругах хорошо известно. «Хуже КГБ», – ворчат на студиях, чураясь религиозных сюжетов, как черт благодатного огня: слишком велик риск резкого удорожания съемок в случае вето клира. А значит, впрягаться в столь хлопотное, чреватое и затратное предприятие могла сподвигнуть Николая Досталя только благородная просветительская миссия. Тем более что сценарист его Михаил Кураев, вопреки подозрениям, к дьякону отцу Андрею отношения не имеет, в сан и подробности таинств не посвящен и гарантировать патриаршье благословение не в силах (впрочем, отец Андрей тоже4).
Суть лучших, «чудиковских» фильмов Досталя «Облако-рай» и «Человек с аккордеоном» можно было бы передать нилинским словом «дурь». Никонианская реформа по размаху и последствиям сегодня кажется дурью вселенской. Вожделеемая новая Византия состояться у нас не могла: православие Русь приняла в готовом виде, опыта теологических споров не имела и центром богословия не считалась. Внутрицерковный же раздор не только рассорил страну, но и отжал твердых в понятиях лиц из общества и управления – несказанно увеличив процент корыстолюбцев на верхних этажах церковной и светской бюрократии. Не зря слово «блядство» звучит с экрана в аввакумовых речах и посланиях без всяких запикиваний, а местные воеводы, верша царский суд над ослушниками, почти беспрерывно жрут. Да и регулярное гашение государем свечей на ночь (как и сбор яблок его наследником) с какого-то момента начинает выглядеть символическим: в великой русской распре сыграл Алексей Михайлович самую малопочтенную роль.
В выборе исполнителей режиссер парадоксов чурался, выражая авторское отношение к историческим лицам шлейфом прошлых ролей артиста. Переиграл Роман Мадянов всех лихоимцев прошлого и настоящего – быть ему боярином Морозовым. Зарекомендовал себя Александр Коршунов лучшей кандидатурой на роли скромняг-правдоискателей – значит, и роль протопопа Неронова его. Случись интерес к расколу прежде, в советском далеке, – играть бы его святейшество Аввакума самому Ивану Герасимовичу Лапикову, старцу въедливому, непокорному и к святому делу самим Тарковским приставленному (был в «Рублеве» монахом Кириллом). Но и уралец Александр Коротков в минуты наивысшей пастырской язвительности с Лапиковым схож и тем возводит канон величавого ненасильственного сопротивления аж к XVII-му веку, за два столетия до рождения г-на Ганди.
В стране, где спасение души напрямую связывается с точным соблюдением обряда, корректировка его заведомо сулила волнение и смуту. За оду стихийному русскому консерватизму и изоляционизму – Досталю, Кураеву и компании «Аврора» высшая надцерковная хвала. Финальный топот солдатских ног на заре нового петровского царствования явно выражает их отношение к эре наступающего западничества.
Как Россию от Иванова спасли
«Тобол», 2020. Реж. Игорь Зайцев. По роману Алексея Иванова
Продюсера Урушева накрыла идея: экранизировать писателя Иванова.
Это была всем идеям идея, никто б до такой не додумался.
Что Иванов с полутора тысячами страниц! Какая у него идея – сиди строчи, коли дел других нет.
Иной вопрос кино. Потому на каждой из восьми серий и написано: «Идея Олега Урушева» – чтоб застолбить и никто чтоб не зарился, знаем мы их.
Иванов, как и все большие писатели, – натура сложная, а постановщики ему попадаются все больше простые. Положительных героев у него нет, а есть алчные, хваткие, пассионарные, задиристые и в экспансии одержимые – строящие хапком великую страну, как американцы фронтир. Назван роман именем реки жестокой и опасной, богатой и мощной – с намеком на саму Россию, как в свое время «Тихий Дон». По берегам этой, как и всякой другой дальней реки, живут люди сильные, угрюмые, опасные во хмелю и удивительные в нечастой доброте. Нож и огнестрел здесь держат под рукой даже нынче, а не то что триста лет назад. Если задерутся – без сломанных рук и ребер не расходятся. Из-за вечной опаски и обилия физического труда женщина тут не то чтоб до конца человек и сегодня, не говоря уж о восемнадцатом веке: бабу под комель не поставишь и в бой не пошлешь. Городскому человеку, считающему себя цивилизованным, здесь неуютно – отсюда и привкус величия: я бы так не смог.
Городской режиссер Зайцев так и не может. Как и все городские (Урсуляк, например), он начинает утеплять грубый и корявый материал. Грозный век, петровская Сибирь, служилый люд, хапуга-губернатор – но все под колокольный звон да созидательные ритмы. Больше всего «Тобол» похож на патриотический мультфильм про старину глубокую, каких много делалось в 70-е: Василиса Путятишна там, Фока на все руки дока, Алеши с поповичами. Детям же не расскажешь, что остячку Айкони изнасиловали первый раз на стойбище, пятый на торжище, восьмой в курной избе – отчего она в лес ушла и медведя съела. И что шведка Бригитта, чтоб выжить, давала под телегами кому ни попадя, не расскажешь тоже. И что в расколе своя правда, детям знать необязательно. И что архитектон Ремезов ставил свои храмы и кремли на деньги, уворованные губернатором у казны, и не кочевряжился. Детям – им бы больше молодечества, скоморошества, румяных щек да пухлых калачей. Ярмарочную драку в «Чкалове» Зайцев ставил с таким азартом, что ясно было: аналогичное побоище в «Тоболе» будет у него одной из кульминаций (как и вышло). Жанр он знает. И просторы у него упоительны, и ярмарки изобильны, и девки бокасты, и строй гренадеров блестящ, и царь Петр черт из ящика, и Россия вся такая витринная. И молодых Ванька и Машка зовут.
А все ж мало. Надо весь двухтомник свести к тому, что шведы подлые, монголы хитрые, Китай друг, раскольник враг, царь трудяга, а нашим пальца в рот не клади, потому что не только откусят, но и вынесут мозг залихватскими прибаутками о русской силе и удали. Этой мыслью нас вот уж триста лет грузят разные ухари без оглядки на формы верховного правления, зато с толстым расчетом на государственные награды. Отсюда все завиральные подвиги пафосного дурачка Ваньки Демарина, его возвышение в царевы любимцы и личные славословия государя на ассамблее. Отсюда и тонна зазвонистой декларативной банальщины, за какую тонкий стилист Иванов огрел бы поленом. «К паркетам не приучен». «Все мы солдаты, все слуги государевы». «На том стояли и стоять будем ныне и во веки веков».
Когда зашел толк о шурах-мурах, Бригитта сказала Маше:
«Так бывать, что есть муж, а любить другой мужчина. Надо быть там, где любить, иначе сердце умирать».
Так бывать.
Есть умный роман, а любить всякий звонкий глупость.
Надо быть там, где любить.
Иначе денег и наград не давать.