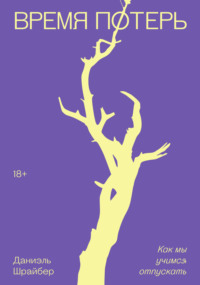Buch lesen: "Время потерь. Как мы учимся отпускать"
© 2023 Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
© C. Ташкенов, перевод с немецкого, 2024
© ООО «Индивидуум Принт», 2024
I
Волны мягко бьются о стену. Где-то вдали кричат чайки. Звук моторов то нарастает, то затихает. Когда я в первый раз открываю глаза, проникающий через окно свет еще не успел набрать силы. Совсем не хочется просыпаться. Утонуть поглубже в постели – ее запах напоминает мне о стиральном порошке из детства. Погрузиться в забвение. Уже наполовину проснувшись, я сомневаюсь, что мне это удастся. Но когда я открываю глаза снова, сумерки уже уступили место дневному свету. Шум воды стал постоянным, как и крики чаек, звуки вапоретто, водных такси и лодок, доставляющих товары в супермаркеты или вывозящих мусор. Несколько голосов окликают друг друга по-итальянски. Я стараюсь не двигаться, словно так на мгновение мне удастся остановить время.
Меня переполняет чувство благодарности. Мне не нужно думать, в каком я городе и отеле. И я чувствую себя отдохнувшим. Накануне ночью шум лодочных моторов не давал мне уснуть, что совсем меня не удивило: за полтора минувших неспокойных года сон тоже меня покинул. Тот надежный сон, который принимаешь как должное, пока не лишишься его. Я подолгу не мог заснуть и просыпался посреди ночи. Даже если удавалось поспать подольше, день начинался с ощущения тяжелой усталости.
Как давно я не чувствовал себя так расслабленно, как сегодня утром? Ответ повергает меня в ужас. Только сейчас я понимаю, о чем думаю первым делом, когда просыпаюсь. Быть может, хороший знак в том, что эти мысли сегодня пришли ко мне позже обычного.
Осматриваясь в форестерии – гостевых апартаментах палаццо, – вдруг замечаю, насколько знакомой она мне кажется, хотя я здесь лишь каких-то пару дней. Клетчатое постельное белье, старомодные воланы, напоминающее иллюминатор овальное окно, темный письменный стол с турмалиново-зеленой лампой из муранского стекла – все окутано аурой надежности. Возможно, дело в запахе чистоты в комнате, в характерных звуках города. А может, и в том, что, как я надеюсь, пребывание здесь вернет мне покой.
Полтора года я себя выматывал. Почти каждую неделю приходилось куда-то ездить с выступлениями, участвовать в мероприятиях. Многое из того, что необходимо для внутреннего равновесия, я забросил. Перестал видеться с близкими людьми, начал оставлять без ответа личные сообщения, даже от лучших друзей и членов семьи. Я все меньше внимания уделял тому, что я ем и как обращаюсь со своим телом. В моменты слабости я – дисциплины ради – винил себя за жалость к себе. Во мне крепло ощущение, будто я становлюсь чужим для своего эмоционального мира и своих мыслей. Истощение стало хроническим. Кульминация этой стадии пришлась на предыдущие месяцы. В результате я отменил почти все встречи и отстранился от соцсетей, где лишь изредка подавал признаки жизни. Венеция должна была положить начало новому этапу.
Если бы меня попросили назвать основное чувство того времени, я бы сказал: потерянность. Словно мир – пусть он и кажется мне знакомым и до сих пор работает по устоявшимся правилам, – сменился другой, жуткой версией самого себя. Язык ускользает от меня, когда я пытаюсь об этом заговорить. Он неуловим. Сперва он ободряюще мне кивает, но лишь затем, чтобы, грустно покачивая головой, вновь со мной распрощаться.
Журналистка и писательница Кэтрин Шульц утверждает, что утрата – странная категория, которая способна вместить в себя что угодно, в том числе вещи, никак между собой не связанные: большое и малое, повседневность и мировую историю1. Мы можем лишиться ключей, телефона, любимых предметов одежды, но также сердца, рассудка или веры в мир. И велика вероятность того, что нам будет трудно справиться с нахлынувшими чувствами. Что мы окажемся бессильны перед потрясением, сопутствующим этим потерям и скорби по ним.
Для каждого из нас скорбь и горе – часть жизни, и неважно, какие события рано или поздно сталкивают нас с ними. Даже если кто-то еще не переживал тяжелых утрат, которые навсегда сотрясают наше существование и выбивают из колеи повседневной жизни – например, смерть партнера, родителей, братьев, сестер или даже ребенка, – все мы теряли то, что много для нас значило, иногда очень много. Мы расставались. Прощались с людьми, сами того не желая. Отказывались от заветной мечты. Рассуждая о горе, Хилари Мантел пишет, что после таких утрат кажется, будто прежняя жизнь еще где-то существует, но невозможно найти к ней обратную дорогу2.
Мы привыкли считать, что траур – черного цвета, поглощающего весь свет и все гасящего черного. Иногда горе действительно ощущается эхом взрыва вовнутрь, после которого в душе остаются одни обломки. Но как правило, все происходит иначе, и нам жаль, что это чувство не так однозначно, и цвет не так абсолютен, и катарсис остается лишь обещанием. Истинный цвет скорби можно найти в неуловимых оттенках серого. Цвета неверия, изнеможения, онемения. Немого, некатарсичного серого, который, кажется, навсегда погребает под собой жизнь.
Продолжаю прислушиваться к волнам, лодкам и чайкам, к случайным голосам города. Оставаясь в постели, я смотрю через маленькое окно на воду Рио-ди-Сан-Поло: в нескольких метрах дальше она впадает в Гранд-канал и даже тротуаром не отделена от Германского центра венецианских исследований в Палаццо Барбариго, где я остановился. Не только запах стирального порошка от постельного белья – вся обстановка небольших апартаментов словно самым естественным образом принадлежит к другой эпохе. Дотянувшись до телефона, я выключаю будильник, который вот-вот зазвонит. И вновь ненадолго смыкаю веки.
Затрудняюсь сказать, когда началось горе, с которым я борюсь и которое, тем не менее, всегда ощущаю. Знаю только, что оно со мной уже давно. Возможно, оно началось в тот день, когда я собирался выйти на сцену в Гейдельберге и позвонила мама, которая никогда не звонила вечером. Посмотрев на светящийся экран и на собравшихся в зале людей, я выключил телефон, поднялся на сцену, сел рядом с ведущей и, усилием воли подавив поднимающуюся во мне панику, улыбнулся залу. Я знал, о чем был этот звонок. Часть меня ожидала его последние месяцы. Отец болел уже очень долго. И все же иррационально я цеплялcя за мысль, что этот момент не наступит. Я не хотел, чтобы по моему виду догадались о произошедшем. Я отработал мероприятие, ответил на вопросы ведущей и зрителей, затем раздал автографы. Отсидел ужин с организаторами. Я избегал известий до тех пор, пока поздно вечером не вернулся в отель. Я уже собирал вещи, чтобы самым ранним поездом отправиться к маме в Мекленбургское поозерье, когда перезвонил ей и узнал, что отец умер.
Я скорблю о нем каждый день. И в то же время чувствую, что потерял гораздо больше – не только отца. Его смерть словно входит в число множества маленьких и больших трагедий, и моя личная утрата смешана с коллективными потерями, которые мы пережили за последние годы. Усиливается ими. Иногда я не уверен, кого или что я оплакиваю, могу ли я по-прежнему отделить якобы малое от якобы большого, мою частную повседневность от мировой истории.
За несколько дней до поездки я говорил об этом с подругой. Вместе мы задумались над тем, когда впервые по-настоящему поняли: что-то закончилось. То, что, как ты думал, с тобой надолго, – и вот ты его лишился. Оба мы остро воспринимали чувство утраты.
Вследствие пандемии, российской кампании на Украине и ядерных угроз многие из нас осознали, что эпоха стабильности, которая становилась все более хрупкой, но оставалась еще ощутимой, закончилась. Книги, статьи и новости по телевидению так упорно провозглашали переломный момент, а иногда даже апокалипсис, что у меня возникло отвращение к этим словам, к шелухе этих слов, которые скрывали больше, чем описывали.
У подруги это чувство утраты впервые возникло летом 2015 года: помогая беженцам, она – по враждебности, с которой они столкнулись, – поняла, что в нашем мире пошатнулось нечто фундаментальное. Вдохновившись этим, я рассказал ей об одном разговоре на вечеринке годом ранее, когда проживающая в Германии россиянка цинично защищала присоединение Крыма как право своей страны, несмотря на нарушение норм международного права. Но на самом деле, как стало очевидно нам с подругой, неумолимые перемены можно было осознать и гораздо раньше. Нам так давно известно о прогрессирующем изменении климата, об экстремальных погодных условиях последних лет, о глобальном потеплении, которое за время нашей жизни успело – благодаря человеку – сделать шаг, равный геологическому периоду в несколько сотен тысяч лет. О новой породе диктаторов, захвативших власть даже в демократических странах и обративших время вспять к эпохе тоталитаризма, ксенофобии, мизогинии и открытой гомофобии. О внезапной приемлемости ультраправой ненависти, в том числе в старейшей демократии мира и в нашей стране, из-за своей истории поклявшейся быть особенно бдительной по отношению к этой форме ненависти. Надо было заподозрить это во время финансового кризиса 2008 года. А может, еще в 2001 году, после террористических атак на Нью-Йорк и последующих агрессивных войн США в Афганистане и Ираке. Подруга сказала, что вообще-то знала об этом, но не хотела осознавать. Я с ней согласился.
Тот разговор не выходит у меня из головы. Понимаю, что пока не хочу вставать. Мы так увлеклись восстановлением хронологии наших коллективных потерь, что не успели обсудить, что именно потеряли. Чувство безопасности? Достоверность? Коллективное самосознание? Может, потери, которые ощущают даже самые уверенные в себе люди, настолько аморфны и губительны, что побуждают инстинктивно избегать даже попыток их называть. Как посмотреть в глаза эрозии социальной сплоченности? Тающей перспективе доброго будущего?
Уже просто подбирая слова, наталкиваешься на внутреннее сопротивление, которое не дает осознать масштабы наших утрат. Еще меньше вероятность того, что психика проделает всю необходимую работу, чтобы с ними справиться. В конце концов, мы горюем не только по людям, много для нас значившим. Мы оплакиваем все, что когда-то играло роль в нашей жизни, все, что когда-то влияло на то, как мы видим или хотим видеть себя, на что надеемся и к чему стремимся. Мы оплакиваем все, утрата чего влияет на нашу «практическую идентичность», как выразился философ Майкл Чолби, на наше понимание мира, на то, какую ценность мы придаем нашей жизни3. Но, возможно, соблазнившись ощущением мнимой стабильности, мы забыли, как скорбеть, горевать, оплакивать. А может, никогда и не знали.
Пролистываю пришедшие за ночь сообщения и письма, просматриваю срочные новости из газет, на которые подписан. Начало своего расстройства я могу отнести и к телефонному разговору с отцом, нашему последнему разговору, в его день рождения. Родители не хотели никого видеть с тех пор, как отец заболел, поскольку опасались, как бы ему еще сильнее не сократил жизнь вирус, который держал в страхе весь мир. Бывало, согласившись с кем-то увидеться на определенных условиях, таких как сдача медицинских тестов, они в последнюю минуту давали отбой. Они даже отменили совместное Рождество – всем было понятно: оно станет для отца последним. Они боролись за каждый лишний день, лишний час.
Я понимал их – и не понимал. Я хотел, чтобы все было иначе. Каждый раз, созваниваясь с отцом, напоминал себе, что этот разговор может стать последним. В результате наши беседы стали более искренними, и мне приходилось сдерживаться, чтобы не разрыдаться – это мне не всегда удавалось, особенно под конец. При прощании я подавлял слезы, и даже у отца застревали в горле слова – эти моменты терзали больше самих разговоров, словно выражая то, что я хотел сказать ему, но не мог: как сильно я буду по нему скучать.
В наш последний телефонный разговор отец вдруг сказал, что мы с братом и сестрой теперь можем его навестить. Со своего рода ужасом я почувствовал, что на этот раз он говорит серьезно, вопреки всем опасениям хочет, чтобы мы приехали, и уже не будет в последнюю минуту просить маму отменить встречу. Я отказывался осознавать, что он говорил мне на самом деле: у него было ощущение, что он достиг последней стадии умирания. Наш разговор закончился привычным образом. Слезы застряли у меня в горле. Повесив трубку, я вышел на террасу и закурил, а затем начал собирать чемодан для очередной встречи с читателями. В каждой новой точке литературного турне – и даже в редкие два-три дня дома в Берлине – я говорил себе: надо спланировать поездку к родителям. Я ее так и не спланировал, и меня это мучило.
Утром перед выступлением в Гейдельберге подруга забрала меня из Дармштадта показать Шветцинген, его замок и знаменитые сады. Насколько хватало глаз, простирались клумбы с тюльпанами. Все вокруг было окутано светлой зеленью, огромные кусты сирени готовились распустить почки. В тот день я понял, что весна действительно началась, последняя весна моего отца, и меня охватило чувство подспудного, иррационального гнева: на мир, в котором все это происходило, но прежде всего на самого себя за то, что я до сих пор не приехал к отцу в последний раз. Прошло почти три недели – а я так и не собрался. В те часы, когда я понял, что пришла весна, отец умер.
Даже сейчас наш последний телефонный разговор не выходит у меня из головы. С тех пор я со многими беседовал о горе, и у всех своя история, каждый идет по жизни со своей версией боли, придумывает ей на свой лад объяснения, не замечая собственных слепых пятен. Несмотря на бесчисленные книги и подкасты, научные исследования и статьи по популярной психологии, многие не способны признать свое личное горе и принять его – возможно, потому, что каждое настолько индивидуально, что не поддается даже самым разумным попыткам его категоризировать. Возможно, потому, что любое горе зиждется на парадоксе: нужно признать то, что признать невозможно, и скорбеть значит позволить сердцу разбиться, даже если все наши инстинкты не дают нам этого сделать.
Переживание утраты всегда несет на себе отпечаток особой непредсказуемости. Джоан Дидион пишет, что горе – это место, которое никто из нас не знает, пока его не достигнет. Мы думали, что потеря сделает нас безутешными, что мы сойдем от горя с ума. Но мы никак не ожидали, что сойдем с ума буквально4. Как она сама, с ясной головой считавшая, будто покойному мужу понадобятся ботинки, когда он вернется из больницы. Как я, все больше изолирующийся от общества и заваливающий себя работой, – лишь бы лишиться сил.
Не способен скорбеть каждый по-своему. Суть скорби прежде всего в том, как мы справляемся с непредвиденностью. Как обходимся с вытеснением. В некотором смысле моменты такой непредвиденности напоминают морские волны за Венецианской лагуной. В основном неплохо справляешься с движением водных масс, с внутренними подъемами и спадами, дрейфуешь туда, куда тебя несет. А бывает, волна настолько сильная, что терпишь бедствие, и – лишь бы не утонуть. С горем мало что можно сделать. От него не убежать. Даже если пытаться, его не заглушить ни едой, ни спортом, ни лекарствами, ни прочими веществами. Его не подавить целиком, хоть изо всех сил старайся. Горе изнурительно, даже если признать свою боль и проработать ее, даже если, собрав волю в кулак, его отвергать. Чтобы удержаться на плаву в открытом море, всегда требуется больше усилий и энергии, чем кажется сначала.