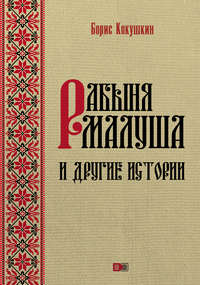Buch lesen: "Рабыня Малуша и другие истории"
Рабыня Малуша, ключница княгини Ольги, мать Великого князя Владимира Красное Солнышко
Кони били копытами землю. В лесах и кустах по обочинам дороги кричали ночные птицы, где-то на Подоле, а потом на Горе пропели петухи, а издалека, из Заднепровья, несся многоголосый перепелиный крик.
И никто не замечал, да и никому не было дела до того, что за санями с телом князя Владимира поспешала какая-то старая женщина в темном платке.
В эту ночь Малуша не спала. В монастыре давно уже знали, что недалеко от них, в своем тереме, тяжко хворает князь Владимир; епископ Анастас, побывавший у него накануне, дал наказ священникам и братии служить молебен о здравии вельми больного князя Владимира, и они молились в церкви до позднего вечера.
Малуша поняла, что происходит: князь Владимир, ее сын, умирает, возле него нет ни жены, ни сыновей, ни одной родной души, все такие далекие, чужие…
С. Скляренко. «Владимир»
Старейшина рода Вирт умирал. Еще утром он почувствовал слабость в груди, но не придал этому значения и вышел во двор подправить и заточить рало для осенней пахоты. Но вдруг сердце кольнуло с такой силой, что он потерял сознание и упал на траву.
Здесь его, беспомощного, и увидел возвращающийся с охоты сын Корж, на руках отнес тощее тело старика в избу и положил на отцову лежанку, на которой была постелена слежалая солома.
Старик лежал молча и только тяжело дышал приоткрытым ртом, чернеющим в седых зарослях бороды и усов. Но глаза его были открыты, и он медленно поворачивал зрачки глаз, оглядывал бревенчатые стены родного до боли жилища, где ему была знакома каждая трещина в дереве, каждый сучок, – еще бы, он вместе с отцом Антом и братьями, тогда еще недорослями, рубил сруб и ставил эту просторную избу. Тогда еще Ант был в силе и полагал, что места должно хватить всему роду.
Да только после его смерти все повернулось иначе. Подросшие Остер и Кожема женились и пожелали жить отдельно от старшего брата, предварительно разделив имущество и земельный клин. Споров при дележе не возникло, – братья были приучены отцом к взаимовыручке и поддержке друг друга, что и свято соблюдали всю пока еще недолгую жизнь.
Возле лежанки умирающего старика сидел Корж и с жалостью смотрел на отца. Но вот Вирт обратил взгляд на сына, словно о чем-то вопрошая его. Тот понял его и, положив руку на слабую, безвольно распластанную кисть старика, тихо проговорил:
– Вита с Малушей пошли за братьями.
Веки лежащего ненадолго прикрылись, словно бы давая знать, что именно это он и хотел узнать от сына. Корж молча смотрел в лицо отца и свободной рукой отгонял жирную назойливую муху, упорно стремящуюся сесть на голову умирающего.
Наконец за дверью раздались голоса, и в избу вошли Остер с женой Праскевой, Кожема с беременной Радой, следом за которыми следовали понурые Вита и Малуша.
– Как он? – спросил Остер.
– Кажется, отходит, – тихо ответил ему Корж.
Все расселись вокруг лежанки старейшины, и Корж рассказал им, как все случилось.
– Может, ведуна позвать? – предложил было Остер, но Корж только махнул рукой.
Вита, обратив внимание на угасающий очаг, велела Малуше подбросить хвороста, что та быстро и сделала. Разгоревшийся огонь бросал блики на стенам избы, от которых лицо Вирта казалось розовым, словно бы оживавшим.
Через какое-то время Вита встала и неспешно, стараясь не шуметь, начала накрывать стол для вечерней трапезы. Праскева и Рада присоединились к ней, доставая из узелков принесенную с собой еду.
После того как все расселись за столом, Корж, на правах старшего, отломил от лепешки кусок и бросил его в огонь. Затем почерпнул ложку похлебки и тоже плеснул в очаг. Пламя зашипело, но почти тут же воспряло. Это означало, что души умерших предков рода, живущие под очагом, приняли дар. Стало быть, можно было начинать трапезничать.
Малуша, как и отец, также отломила небольшой кусок лепешки, вышла из-за стола и, сев на чурбак в изголовье умирающего дедушки, вложила ему хлеб в ладонь и согнула его пальцы. Рука старика слегка дрогнула, а из краешка глаза вытекла нежданная слеза, которую Малуша вытерла своей ладошкой.
Взрослые молча наблюдали за девочкой, а ее мать подошла к дочери, обняла и нежно погладила по русым волосам.
Утром, когда солнышко только начинало подниматься над Подолом, Корж вздохнул в останний раз, вздрогнул и застыл навсегда. Душа его устремилась к далеким предкам рода с тем, чтобы отныне навек пребывать вместе с ними.
Постояв недолгое время у лежанки покойника, сыновья молча ушли рыть могилу, – по обычаю рода умершего надо похоронить до захода солнца. Женщины начали собирать одежду покойного, которую ему следовало взять с собой в долгий безвозвратный путь.
Корсту1 для собственных похорон Вирт, словно предчувствуя скорую кончину, изготовил еще прошлым летом и держал ее под навесом подле овина.
Возвратившиеся после полудня мужчины, не мешкая, взялись за приготовление к похоронам. Покойника переодели в свежую ноговицу2, усадили в изголовье саней, положив его руки на колени. В ногах поместили корсту с покровиной3. Люди спешили: нужно было исполнить все полагающиеся церемонии засветло, чтобы душа Вирта не заплутала во тьме.
У дома Коржа собрался весь род. Женщины рыдали, поминая добродетели умершего. Процессия тронулась к родовому погосту, располагаемому на высоком яру над Днепром.
Впереди всех на правах нового старейшины шел Корж, высоко поднял черное знаменно. Позади него две лошади волокли сани с Виртом, за санями шествовали мужчины в белом облачении, непрерывно бившие мечами о щиты. А уже после них шли плачущие женщины в темном одеянии.
Возле могилы процессия остановилась. Под непрерывный плач женщин и грохот мечей в глубокую и просторную могилу мужчины опустили корсту с покойным, возле нее положили принадлежавшие бывшему старейшине щит, меч, копье, лук с тулом4. В ногах поставили две корчаги – одну с вином, другую – с медом, – они пригодятся Вирту в дальней дороге.
В то же самое время Вита, Праскева и Рада, оставшиеся дома, жарили на костре поросенка. Когда родичи вернулись с погоста, у них все было готово для поминальной трапезы.
Возвратившиеся с похорон люди омыли для очищения руки, после чего Корж начал тризну. Он бросил в огонь кусок мяса поросенка, плеснул вина. Увидев, что огонь принял жертву, он наполнил чарки вином и раздал их родичам.
Выпив хмельное и закусив оторванными кусками мяса, те поочередно заговорили, поминая добрыми словами ушедшего от них Вирта.
По окончании тризны Остер обратился к Коржу:
– Отныне на правах старшего быть тебе старейшиной рода. Правь нами так, как это делали ушедшие от нас отец Вирт, дед Ант и его отец Улеб.
Вирт молча приложил руки к груди и низко поклонился родичам…
На следующий день, едва рассвело, новый старейшина с женой отправились на капище, чтобы поклониться богам рода.
Придя на место, он помазал губы идола куском специально отложенного сала от поминального поросенка, полил землю перед ним вином и, низко поклонившись, произнес:
– Великий Перун! Прими от нас жертву в честь ушедшего от нас славного Вирта. Прими его душу и упокой ее. Помоги мне править родом так, как это делали достославные Улеб, Ант и Вирт…
Княжьи терема располагались посередине Горы, вокруг которых были широко разбросаны подворья воевод, тысяцких и тиунов5, позади которых лепились неказистые хижины и землянки гридней6, смердов7, ремесленного люда. От всех прочих, проживающих на Подоле, Гора была отделена стеной из заостренных бревен и рвом, через который был переброшен единственный деревянный же мост, поднимающийся на ночь и опускающийся с рассветом.
На площади перед княжьим теремом шло сражение – малолетние парни, среди которых были и еще совсем юные княжичи Всеслав и Святослав, познавали правила боя на мечах под приглядом бывалого воя Асмуса, дядьки Святослава.
На высокое крыльцо терема вышла женщина несколько выше среднего роста и некоторое время наблюдала за сражающимися, с удовлетворением отметив для себя смелость и отвагу, с которыми сражался ее сын, сын славного Игоря, его наследник. Она отдала какое-то распоряжение подошедшему к ней тиуну и, еще раз взглянув на сына, вернулась в терем.
В покоях терема было сумеречно, несмотря на яркое солнце за окном. На пристенных лавках сидели княгини Прекраса и Милана – вдовы, как и она, первая и вторая жены покойного князя Игоря.
Увидев вошедшую, женщины замолчали, уткнувшись в вязание, которое они начали незнамо когда и конца которому не предвиделось в ближайшем времени.
– Занялись бы делом, вороны. Вон как вас разнесло от безделицы, словно квашни переспелые, – упрекнула их Ольга. – Как только самим не противно заниматься пустословием!
– А ты не командуй! – взвилась было Прекраса, но в этот момент в горницу ввалился дядька Асмус, ведший за руку упирающегося Святослава. Лицо мальчика было в крови, которую он стирал рукавом.
– Что случилось? – строго спросила Ольга.
Святослав молчал и только обиженно сопел. За него ответил его воспитатель:
– Я дал команду остановить бой, и, когда все опустили щиты и мечи, Всеслав неожиданно ударил Святослава мечом по лицу.
Прекраса, мать Всеслава, громко засмеялась, но Ольга так глянула на нее, что та резко оборвала смех и молча вышла наружу проведать своего сына.
Святослав не плакал, а только сжимал свои маленькие кулачки.
– Денка, – крикнула Ольга няньку мальчика.
Когда та вбежала в покои, княгиня приказала ей умыть, наложить лист подорожника на рану и перевязать сына.
Когда девушка с княжичем вышли, она повернулась к Асмусу и резко приказала:
– Выпороть звереныша!
Тот молча поклонился и вышел. А через некоторое время в горницу ворвалась взъерошенная и красная от ярости Прекраса и закричала на Ольгу.
– Ты зачем велела наказать моего сына? Завидуешь, что он старше и станет князем?
Она бы кричала и дальше, но Ольга повелительным жестом остановила ее:
– Наказала не за своего сына, а за подлость твоего отродья. А будешь и дальше заступаться за него, прикажу выселить тебя в Любеч.
Зная жесткий характер соперницы и памятуя о той власти, которой Ольга овладела после гибели Игоря, Прекраса замолчала и, сердито ворча что-то под нос, села рядом с Миланой.
Вечером, перед тем, как лечь спать, в светелку Денки, где находилось и ложе Святослава, заглянула Ольга. Девушка что-то рассказывала мальчику, а тот с интересом слушал ее.
– Принеси-ка нам кваску холодненького, – выслала Ольга девушку.
А когда та вышла, спросила сына:
– О чем вы так интересно разговаривали?
– Она мне рассказывала про поход тяти в Царьград. Оказывается, и ее отец был в этом походе.
– Да, я знаю об этом. Потому и взяла ее к себе, – ответила мать. – Он погиб в битве с хазарами, когда возвращались из похода.
– Матушка, а как вы познакомились с тятей? – спросил мальчуган.
– Тебе это интересно? – удивилась она.
– Да ведь он – князь, а ты из простолюдинок.
– Молодец, начинаешь думать. А все вышло спешно и случайно. Он шел с небольшим войском по нашему городищу. Тут надо было переправляться через реку. Я же занималась перевозом. Вот так и встретились. Он забрал меня с собой. А потом и ты родился…
В это время в светелку вошла Денка с корчагой кваса. Княгиня отпила немного и, поцеловав сына, ушла. А Святослав спросил няньку:
– А почему все боятся мамку?
– Она справедливая и заставляет всех работать, а не лениться, как Прекраса и Милана. Она думает больше о государстве, а не о себе, как многие из ее окружения…
Дни монотонно бежали один за другим. Как и дни, незаметно в постоянных трудах мелькали месяцы, годы…
Однообразие жизни рода Коржа нарушало только полюдье8, которое проводил их князь Бразд. Причиной таких наездов все чаще являлись распри, возникающие между смердами: где-то соседи поссорились из-за пустяка и дело дошло до пролития юшки, кто-то не поделил рольные земли9 из-за того, что обильные осенние и весенние дожди смыли разделительную межу. Порой дело доходило до смертоубийства. В таком случае виновного везли на Гору, и, в зависимости от степени вины, ябедьник10 либо накладывал штраф, либо волок в поруб11. Смертоубийц отводили к самой княгине Ольге, и только она решала, как поступить с преступником.
Чаще всего убийца подвергался смерти согласно старинному обычаю: око за око, зуб за зуб. Да и сама Ольга принимала решение не с бухты-барахты, а с согласия воевод и бояр.
Корж старался не дожидаться полюдья, а загодя принимал меры, заодно и отвозил дань своему князю. При этом Корж объяснял: лучше отвезти дань самому, чем дожидаться приезда ябедьника, который обязательно добавит к обычной дани немалый кус для себя.
Однако людишки не всегда внимали увещеваниям старейшины рода и даже понемногу баловались воровством в княжеских владениях – то снимут птицу на чужих перевесищах, то тайком добудут бора на гонах, зверя в лесах, а рано поутру сетями выцеживают рыбу в княжеских реках…
– Ох, попадутся они однажды, беды не оберутся, – ворчал Корж.
– Тятя, а для чего они так делают? – спрашивала его десятилетняя Малуша.
Отец обычно гладил дочь по голове и приговаривал:
– Дак ить жадность человеческая не дает им покоя. Не понимают, что сколько ни воруй, все равно не насытишься, а только попадешь под горячую руку князя. И тогда беда всей семье.
– А почему одни люди богатые, а другие бедные? – продолжала допытываться дочка.
– Так уж нашими богами заведено. И не нам нарушать заведенные ими заповеди.
– А княгиня Ольга хорошая или плохая? – не унималась Малуша.
– Экая ты дотошная, – усмехнулся отец.
– Ну, правда! – не отставала дочь.
– Да видишь ли, Мала, – слегка задумавшись, отвечал Корж. – Конечно, с древлянами, убившими князя Игоря, она поступила слишком жестоко. Было бы понятно, если бы она наказала смертью тех, кто его казнил. Но для чего было губить жителей Искоростеня, в том числе стариков, женщин и детей малых, сжигать город? Хотя и сам Игорь был не совсем прав. Ну, получил дань и иди себе с миром! Нет, жадность обуяла его. Показалось, что еще можно взять… А потом Ольга успокоилась – поняла, что после этого древляне не могли платить дань несколько лет. Не с кого и не с чего было. Сейчас же, ты видишь, мы ни с кем не воюем, только отбиваемся от редких набегов печенегов. Правит она мудро и справедливо, тут ничего плохого сказать нельзя.
– Хорошо, что теперь не воюем, – вздохнула Малуша.
– Знамо, хорошо, – согласился отец.
– А почему люди берут чужое?
– Видишь ли, все идет от войн, – тихо проговорил отец. – После битвы победители забирают у поверженных все, что им приглянулось, у убитых берут оружие, мошну, даже снимают хорошее платно. А уж когда возьмут городище, то начинается татьба12, когда забирают в домах все, что приглянулось, – узорочье13, черевьи14, паволоки15, возьмут и колтки16 с лунницами17…
– Как печенеги?
– Почитай, что так. А князья на награбленное нанимают новых воев, чтобы совершать новые набеги.
– Как Свенельд с его варягами?
– Да, вот и получается: ратники во время набегов привыкли без спроса брать чужое, и в миру не могут остановиться – тайно берут у своих.
– Нехорошо это.
– Ясное дело, нехорошо.
Их беседу прервала Вита, обратившаяся к дочери:
– Беги, руки сполосни, сейчас вечерять будем.
Когда Малуша выскочила за порог и начала плескаться у рукомойника, Корж бросил жене:
– Взрослеет девонька. Ишь, какая смышлененькая, головастенькая…
– Пора бы уже, – ответила Вита. – Года-то бегут…
Княгиня Ольга сидела в уединении с греческим священником Григорием, с недавних пор обосновавшемся в Киеве. Ольга жаловалась ему на то, что чернь совершенно распустилась, людишки совершенно не страшатся княжеского гнева.
Ни наказания, ни жесткие приговоры не могут остановить разбой. Тати не страшатся даже гнева языческих богов.
– Ваших богов, что песчинок в пустыне бесплодной. Кого только ни выдумали, – и Овсич, и Свентовит, и Крышень, и Белобог, и Ветрич, и Озернич, и Дождич, и Пчелич, и Плодич, и Зернич, и Ледич, и Студич, и Птичич… Все они – рядом, под рукой. И наказать-то их можно.
– Да, порой и побивают идолов, коли что не так, – добавила Ольга.
– Вот видишь, – продолжил священник. – Что же это за бог, которого можно не бояться и даже побить?
– В Византии, когда я была там, императоры Константин и Василий убеждали меня принять их учение. Да и персы суетятся, в свою веру тянут…
– Где они, персы-то? – всплеснул руками Григорий. – На краю земли. У них даже лика Аллаха нет! Кому молиться? Духу незримому? Да и учение их странное, непонятное… А что касаемо византийцев… Мало они горя принесли русинам? Да и обида у них на князя Игоря, мужа твоего, за то, что взял их столицу и заставил выплатить огромный откуп.
– Да, немало эти византийцы кровушки нашей пролили. Еще наши деды и прадеды рассказывали, что те вкупе с половцами ходили на рать с русинами.
Мне нравятся обряды и ваше учение, поэтому я и крестилась в вашу веру. Но как донести до нашего народа ваше учение, если у вас и письменность какая-то странная – пользуетесь знаками, кои далеко не все из нас понимают.
– Вот потому я и привез к тебе двух братьев-монахов – Кирилла и Мефодия. Не дело вам писать чудными чертами да резами. Кирилл принял на себя пост и сейчас пишет славянскую азбуку. Как только создадут ее, начнут переводить христианские книги на новый славянский язык.
– Коль скоро азбука будет готова? – спросила Ольга.
– Намедни я был у него. Трудится, не разгибая спины. Сам понимает, что дело не терпит отлагательств. Наберись терпения, матушка, все образуется. А вот как княжичи, не хотят креститься?
– Беда с ними, уперлись и ни в какую! Не хотят принимать новую веру.
– Что так? Вон уже и многие бояре, воеводы и тысяцкие восприняли новую веру…
– Упрямы зело, – махнула рукой Ольга. – Особенно Всеслав. Начинаю говорить с ним о вере, плюется. А Святослав только посмеивается. Уноши18 уже, трудно на них найти управу. Сам-то пробовал с ними беседовать?
– Пробовал, – вздохнул Григорий. – Не ведаю, чем их еще можно вразумить. Издевательски смеются и посылают меня проповедовать старухам да старикам.
В этот момент со стороны площади послышался конный топот, а через некоторое время дикий женский вопль.
– Господи, что там еще случилось? – встала Ольга.
Встал и Григорий и вслед за княгиней стал спускаться по лестнице во двор.
Там уже стояла толпа, конюхи уводили оседланных лошадей. Увидев княгиню, толпа расступилась, и Ольга увидела лежащего на земле Всеслава. Голова его покоилась на коленях дядьки Чурилы, горло, руки и грудь были залиты кровью. Над сыном выла Прекраса.
Святослав со своим дядькой Асмусом стояли здесь же, низко опустив головы.
– Кто его? – обратилась княгиня к Асмусу.
– Горячий… Погнался в лесу верхи за лисой и горлом напоролся на торчащий сломанный сук. Мы прискакали, а он уже мертвый.
– Почему не удержали? – продолжала допытываться Ольга.
– Остановишь его, – махнул рукой Асмус. – И упреждали, и кричали, да куда там! Чурила даже изловчился схватить лошадь под уздцы, так княжич так огрел его плетью, что глаз едва не выбил.
Ольга посмотрела на дядьку Всеслава, – действительно, поперек щеки кровоточил глубокий шрам, идущий почти от самого глаза к уху.
– Похоронить язычника сегодня же, – приказала Ольга ближнему боярину.
– На костре или в землю? – спросил тот.
– В землю, на Горе, – кинула та. – Пока костер готовят, день кончится…
Когда Ольга оделась в траурную одежду и уже сходила с крыльца терема, ее остановил священник:
– Ты же христианка, а там хоронят язычника!..
– Хоронят княжича. Что подумают мои подданные, если я не явлюсь на погребение?
– Давно надо было крестить своих людишек, – проворчал Григорий.
– Пока не будет крещен весь народ, я не могу вставать поперек давних обычаев, даже если они и языческие. Отойди, не мешай мне…
Через несколько дней после погребения Всеслава Ольга позвала Чурилу:
– Подбери дельного ябедьника и пошли ко мне, – распорядилась она.
Когда тот явился, княгиня приказала:
– Возьми людей и срочно поставьте в Любече небольшой терем.
– Для кого? – поинтересовался тот.
– Ты строй быстро и ладно, а остальное не твое дело, – отрезала княгиня.
Тот поклонился и на следующий же день с ватагой черных работных людей выехал в Любеч.
В середине травня19 ябедьник возвратился, доложил княгине о том, что терем с поверьем20 излажен, и за усердие был награжден добрым платном.
Вызвав Чурилу, Ольга приказала:
– Подбери пятерых мечников21. Повезете Прекрасу в Любеч и останетесь при ней. Да чтобы оттуда никуда ее не отпускать.
– А если… – начал было Чурила, но княгиня резко бросила:
– Тогда – в жажели22!
Узнав о том, что ее отсылают в Любеч, Прекраса с утра до вечерницы кричала в крик, рвала на себе волосы, винила во всем Ольгу.
– Господи, пожалей страдалицу, – молился Григорий. – Что же она так мучается, бедолага?
– Не от того кричит, что увозят, – усмехнулась княгиня. – От того, что ее задумка не совершилась.
– Что за задумка? – полюбопытствовал священник.
– Она надеялась, что со временем Всеслав, как старший из детей Игоря, станет князем и она возвысится над всеми. А с его смертью все надежды ее рухнули, а тут еще и удаляют из Киева.
– А пошто ты ее удаляешь, она тебе не соперница, – не отставал священник.
– Озлобилась она. Может любую пакость сделать. А так будет спокойнее. А ты чего пришел-то?
– Да, нет ничего страшнее рассерженной женщины. Чтобы отомстить за свою обиду, она пойдет на все, чтобы удовлетворить свою месть.
Ольга повернулась к Григорию и строго глянула на него. Тот понял, что напомнил ей о мести за мужа, и, стараясь замять свою оплошность, тут же заискивающе проговорил:
– Отец Кирилл изготовил славянскую азбуку, просил тебя посмотреть и узнать, не нужно ли что переделать?
– Ну, пошли, глянем, что там намудрил твой византиец из Солуни, – кивнула Ольга. – Сам-то видел ли?
– Видел, видел, – забормотал Григорий, направляясь к кельям Кирилла и Мефодия.
Жизнь смерда не мазана медом, – зимой ли, летом ли, работы всегда хватает. Вот и приходится вертеться от восхода до заката.
Зимним вечером при свете лучины Вита перебирала засушенные летом лечебные травы и поучала дочь:
– Это – золотуха. Она растет на борах, на раменских местах, при осинниках. Листики, глянь, махонькие, в пядь. А это суровец, ее надо собирать при водах, она в локоть вышины, красновата, листки, как елочки. Вот это – шам, листочки язычком, видом, что капуста…
– Ты что, ведунью из нее готовишь? – усмехнулся сидевший рядом Корж, выстругивая черенок для мотыги.
– Хозяйка должна все знать и помогать домашним при хворях, – наставительно проговорила Вита.
– Дело говоришь, – согласился муж и, отложив законченный черенок, предложил: – А не повечерять ли нам?
Малуша быстро вскочила и весело проговорила:
– Я приготовлю.
Шустрая девушка начала быстро расставлять посуду на столешнице.
– Хорошая хозяйка будет, – похвалил отец дочку.
– Да вон уж уноши возле нее вьются, – улыбнулась Вита.
– Ой, что ты говоришь, мама, – покрылась румянцем Малуша.
– А что за парубок провожал тебя после посиделок? – не унималась мать.
– Да это Хоре, сосед. Ему надо было возвращаться домой мимо нашей избы, – оправдывалась дочка.
– Плети лыко, – продолжала смеяться над дочерью мать, но Корж, видя смущение дочери, пришел ей на выручку:
– А что сейчас делают на посиделках?
Малуша с благодарностью посмотрела на отца и начала рассказывать:
– Унотки23 пряжу прядут, уноши играют на гуслицах или свирельке, песни поем, смеемся.
– А что за песенки? Спой, – попросил Корж.
– Такую вот распевали:
Введение пришло,
Зиму в хате замело,
В сани коней запрягло,
В путь-дорожку вывело,
С берегом связало,
К земле приковало,
Снег заледенило,
Малых ребят,
Красных девчат
На салазки усадило,
На ледянке с горы покатило…
Или вот, когда уноши зачнут пугать лешими, мы запеваем:
Вы катитесь, ведьмы,
За мхи, за болота,
За гнилые колоды,
Где люди не бают,
Собаки не лают,
Куры не поют, —
Во там и место!
– И мы те же песенки пели, такоже нас уноши пугали, – отозвалась Вита.
– Страшно было? – спросила ее дочь. – При лучине-то темень. И вдруг кто-то из уношей как крикнет по-совиному… Жуть!
Несчастье в этой доброй и мирной семье случилось в один из теплых весенних дней.
Истопив баню, первыми в нее пошли мыться Вита и Малуша. По привычке Вита сняла с себя оберег, который был подарен ей отцом мужа, Антом. Молодой Ант был ратником Олега, когда тот еще княжил в Новгороде, и в один из походов на зырян как раз и добыл эту безделицу.
Был он и в том знаменитом походе к Днепру, когда князь обманом и хитростью уничтожил здешних правителей, Аскольда и Дира, отняв у них Киев. Здесь Ант и женился, здесь у него и родились сыновья. А когда старший сын женился, он подарил невестке этот оберег, который она приняла с благодарностью, нанизала на льняную нитку и постоянно носила на груди.
Оставив дочь в избе одну, Вита вернулась в баню к мужу. Девочка долго рассматривала оберег и решила примерить его на себе, нацепив на шею. Когда родители пришли из бани, она попросила:
– Матушка, можно я немного поношу?
– Поноси, поноси, – ответила распаренная от банного духа Вита.
Утром следующего дня, когда солнце едва поднялось из-за леса и еще не сошла утренняя роса, Вита отправилась в лес собирать лекарственные травы.
Корж с Малушей не волновались, – Вита не впервые ходила за травами, и занялись привычными домашними делами.
Но когда солнце начало свой сход за Гору, Корж и Малуша забеспокоились.
– Оберег она оставила у меня, – едва не плакала девочка.
– Не хотела тебя будить, когда уходила, – рассеянно ответил ей отец.
Работа валилась из рук. Наконец Корж бросил все дела и сказал дочери:
– Уж не случилось ли какой беды? Надо идти искать…
– Я с тобой, батюшка! – встрепенулась Малуша.
– Куда тебе, сиди дома, жди.
– Может быть, она зашла к дядьям Остеру или Кожеме поболтать с Праскевой или Радой? – бросила ему вдогонку Малуша.
– Я зайду к ним, – отозвался отец и вышел, прикрыв за собой дверь.
Малуша, оставшись одна, взволнованно ходила из угла в угол. Зажав в руке оберег, она обращалась ко всем богам, чьи имена помнила, прося их помочь отыскать матушку.
Корж вернулся один, когда взошедшая луна заглянула в слюдяное окошко и спорила своим светом с тусклым огоньком горящей лучины. По грустному лицу отца Малуша поняла, что матушка не отыскалась.
– Ходили с Остером и Кожемой в лес, не нашли, – коротко ответил он на немой вопрос дочери. – Ложись спать, поздно уже.
– Зачем я только выпросила этот оберег, – девочка заплакала, сняла безделушку с шеи и положила ее на столешницу.
Корж присел на лавку рядом с дочерью, обнял ее и молча поглаживал по головке.
– Ничего, отыщется, – слабо утешал он ее. – Обязательно отыщется…
Незаметно для себя Малуша уснула, и Корж осторожно отнес ее на лежанку, а сам сел подле окна. Сон не шел к нему…
Рано утром следующего дня, едва начали светлеть редкие облака на небе, возле жилища старейшины собрались все взрослые члены рода. Пришла даже Рада с младенцем на руках.
Всем сходом люди начали обсуждать, где искать пропавшую Виту. Беда была в том, что никто не видел, в какую сторону она отправилась за травами. Наконец, решили, что далеко она уйти не могла, искать ее нужно в ближнем к селению лесу.
Вместе со всеми собралась идти и Рада, но Корж остановил ее:
– Куда ты побредешь с сосунком? Побудь лучше с Малушей, – боюсь, как бы она не увязалась за нами.
На опушке леса люди выстроились в цепь и пошли, постоянно перекликаясь друг с другом и выкрикивая имя Виты.
Когда ночная роса начала окончательно сходить, по цепи раздались выкрики: «Нашли!»
В яру, заросшем высоким кустарником и подростом, лежала жена Коржа. Одежда на ней была порвана, лицо и грудь были в крови. Глубокие царапины прорезали голову и щеки. На помятой траве отчетливо выступали большие и маленькие медвежьи следы.
– Набрела на медведицу с сеголетком, – тихо проговорил Остер.
– Она голодная и злая после зимней спячки, – согласился Кожема. – Да еще и с медвежонком…
Женщины завыли в голос: добрую и обходительную жену старейшины рода любили и почитали все.
Вырубив из подроста жерди, мужчины соорудили носилки и, водрузив на них тело мертвой женщины, направились в селение.
Согласно языческим обрядам, Виту похоронили в тот же день. Когда тело опускали в могилу, начал накрапывать дождь. А возвращающихся с похорон родичей накрыл настоящий ливень.
– Даже боги плачут по Вите, – произнес кто-то в толпе…
В светелке княгини Ольги, расположенной на втором этаже терема, мать-правительница и священник Григорий пытались вразумить юного Святослава принять христианскую веру. Молодой уноша, у которого заметно пробивались темные усики, был насмешлив и непреклонен.
– Вы молитесь на образ Христа, намалеванный на деревянной доске, – издевательски усмехаясь, обращался он преимущественно к священнику. – Так и мы обращаемся к деревянным или каменным идолам. Где отличие? Вы придумали сказку о его жизни, но и у нас есть свои розмыслы о наших богах.
– Христос – святой человек, принявший страдания за всех людей, – настаивал священник. – Он милосерден и готов отпустить прегрешения всем покаявшимся… – Ваш Христос – слабый человек, – отмахнулся Святослав.
– Почему ты так считаешь? – вмешалась в разговор мать.
– Он не стал бороться за свою веру, а позволил себя убить. И позволил не абы как, а в компании с двумя преступниками. А потом, – обратился Святослав к Григорию, – посмотрите на лики святых, которые вы привозите из своей Греции. Глядя на них, плакать хочется. А наши боги – веселые и, как и Христос, в то же время милосердные. У вас – малопонятные людям и скучные молитвы, а у нас:
Славься Перун – бог Огнекудрый!
Он посылает стрелы в врагов,
верных ведет по стезе.
Он же воинам честь и суд, праведен
Он – златорун, милосерд!
Или вот еще:
Только греет одно солнце ясное.
Как благодетельно к нам оно! —
Световид! Мы тебе поклоняемся,
Имя твое вознося.
Коль велик, велик Световид,
Шествуя в бедствах утешить людей!
Царю звезд, тебе поклоняемся,
Пред тобою мы подвергаемся!
– Мы с тобой серьезно разговариваем, а ты шуткуешь, – упрекнула сына мать.
– Это вы не понимаете, что нельзя заставить целый народ делать то, что ему противно, – не уступал княжич. – В каждом жилище вы увидите наших богов. Вон даже у тебя, матушка, на рушнике вышита богиня Мокошь.
– Экий ты упрямый да своенравный. Весь в отца, – упрекнула его мать. – Серчаешь по пустякам…
– Да как не серчать, глядя на тебя, – вспылил Святослав. – Вместо того, чтобы думать о расширении княжества и умножении его могущества и богатства, ты разумеешь только об одном: как бы сделать так, чтобы этот посланец Христов был доволен. Одно на уме – народ обратить в чуждую веру христову. Одумайся, матушка!