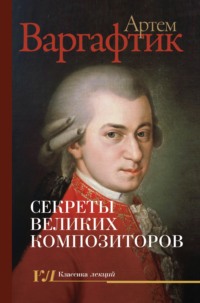Buch lesen: "Секреты великих композиторов"
© А.М. Варгафтик, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
От автора
Уважаемый читатель!
Спешу заверить Вас в том, что эта книга совершенно не предназначена для того, чтобы Вас чему-то научить. Автор не только не преследует никаких просветительских целей – но более того, честно старался избегать даже малейших попыток «сеять разумное, доброе, вечное» в чьих-либо умах или душах. Покорнейше прошу также оградить меня от подозрений в «пропаганде классического музыкального искусства», ибо нет более бесполезного и бессмысленного занятия, а равно и более «криво поставленной» задачи.
Это просто – дневник наблюдений за историей музыки. Ваш покорный слуга вел (и продолжает вести) его в процессе журналистской работы с тем (порой любопытнейшим, порой весьма скучным и однообразным) материалом, который история сохранила и продолжает передавать по наследству от эпохи к эпохе. Интересно следить за тем, как в зеркале времени искажаются те или иные простые вещи и события, как они приобретают черты многозначительности, величия или загадочности, или напротив – демонизируются и обесцениваются. Еще интереснее наблюдать за тем, как многие случайно сказанные слова становятся весомыми фактами и начисто теряют связь с той – прежде всего, музыкальной – реальностью, которая вызвала их к жизни.
В «дневнике» естественным образом отсутствуют хронологический порядок изложения, строгая логическая направленность, так называемый «научный подход» и авторские предубеждения в отношении тех имен, фактов и произведений, о которых идет речь. Употребляемое иногда выражение «музыкальное расследование» является не более чем фигурой речи, поскольку автор пользуется исключительно общедоступными данными и никаких «следственных действий» (как то: опознаний, очных ставок, допросов или экспериментов) проводить никогда и не думал. Как и выводить кого-либо «на чистую воду».
Это попытка разобраться и понять, а не проповедовать и внушать. (И на какое-то время удовлетворить свое музыкантское любопытство за счет издателя.) А если хотя бы одному человеку мне удастся передать свой интерес к предмету, то значит – наше время потрачено не зря.
Густав Малер
Расставание с иллюзиями
Первая симфония
Так называемое музыкальное расследование – вообще-то, дело рискованное, хотя бы потому, что никаких окончательных суждений или юридических доказательств, никаких улик (ни за, ни против чего бы то ни было) мы все равно добыть не сможем, да и не стараемся, честно говоря. Законы музыки, гармонии и красоты предусматривают несколько иную меру ответственности, чем законы гражданские или уголовные. Убедило, проняло, заставило замолчать и прислушаться нас с вами то или иное произведение, а порой – несколько звучащих секунд, пара тактов, случайный набор звуков – или пролетело мимо ушей? Вот в чем вся штука… А если задело и не пролетело мимо, то – почему? И кто над кем, в конце концов, властен? Мы – над музыкой или она – над нами?
Оказывается, дело не в хронике событий и фактов, из которых составлена ткань чьей-то чужой и давно прошедшей жизни. А в том, что часто настоящая музыка оказывается стенографической записью наших собственных мыслей, мучений и умозаключений, более того, неожиданным образом – и записью нашей, еще не случившейся, истории, которую мы, собственно, и попытаемся расшифровать.
Первым нашим расследованием будет история одной симфонии, где вопиющих логических противоречий и улик больше чем достаточно. Речь идет как раз о том, что мы уже давно слышим, – первой по счету из девяти симфоний Гyстава Малера.
Малер – одногодок Антона Павловича Чехова (прожил, правда, чуть дольше, но все равно до обидного коротко, 51 год) и оставил по себе загадок не меньше, зато куда больше кривотолков, непонимания, запретов, возмущения и недоумения у высоколобых ценителей музыки. Кстати, было время, когда «ценители», которых еще называют «искусствоведами в штатском», совершенно серьезно запрещали не только его играть и петь, но даже выдавать на руки его партитуры в нотных библиотеках, утверждая, что это «дегенеративная», «вырожденческая» и чрезвычайно вредная музыка. И в сталинской советской империи, и в гитлеровском «тысячелетнем рейхе» – почти одновременно в двух странах и почти одинаковыми словами. К чему бы это? Чем мог музыкант, умерший в 1911 году, так сильно насолить строителям светлого будущего за колючей проволокой, да еще и быть опасным для них столько лет тому вперед? Политики и политика тут, однако же, совершенно ни при чем.
1892‐й год. Гамбург. В местной опере дается первая на немецком языке постановка Евгения Онегина Чайковского. Петр Ильич – в восторге от того, что за пультом стоит не просто ремесленник и не просто капельмейстер, а настоящий артист и человек, способный читать чужую музыку как свою. Это 32-летний Густав Малер. Как он работал? Чего требовал от музыкантов? Лаской ли, кнутом ли – он заставлял их играть так, что музыка Чайковского преображалась буквально на глазах у Петра Ильича.
Мы не расстаемся с Петром Ильичом – он нам еще понадобится в качестве бесценного свидетеля и очень важной в нашей истории персоны, хотя история-то вроде совсем не о нем. Но, все же! Что надо было сделать, чтобы получить от него такую путевку в жизнь? И это при том, что ни Чайковский, ни добрая половина людей (а то и все три четверти), слышавших Малера при его жизни и знавших, что такой Густав Малер вообще существует, ничего не знали о его занятиях сочинительством. А те оставшиеся, кто знали (половина ли их была, четверть, осьмушка – кто считал?), знали о нем лишь то, что это выдающийся дирижер, который, кажется, сочинил что-то эклектичное, то есть разнородные музыкальные находки смешал в одну кучу так, что лучше бы и не сочинял ничего. Откуда они это взяли, мы тоже разберемся, но сначала – что же там мог такого найти Петр Ильич? Или, например, Сергей Рахманинов (которому Малер дирижировал американскую премьеру его Третьего фортепианного концерта в нью-йоркском Карнеги-холле), тоже опомниться, говорят, не мог, что за чудо-капельмейстер этот Малер!
А все дело в том, что, во-первых, Малер все, что слышал, всегда принимал лично на свой счет. Так было и с Евгением Онегиным, и с Бетховеном, которому Малер, не стесняясь, дописывал в партитуру лишние инструменты, чтобы лучше, резче, острее было слышно. Во-вторых, с самого начала, только беря партитуру в руки, Малер знал, что музыка – это не то, что там мелкими черными значками нарисовано, а – то, что он с ней сделает. Он не боялся того, чего боялись (или, скажем мягко, справедливо опасались) другие маэстро – позволять себе вольности и доверять именно своему дирижерскому глазу, своему слуху, своим эмоциям.
А вскипал он, как электрический чайник, моментально. И в отличие от электроприбора с водой – остудить его было почти невозможно. Один раз, репетируя, правда, свою собственную Третью симфонию (это гигантская звуковая версия философской книги Ницше «Веселая наука»), Малер поставил дирижерский рекорд, который не побит и по сей день – да, я бы хотел посмотреть на дирижера, которому позволят побить этот страшный рекорд! – в пассаже из четырех тактов он остановил оркестр 85(!) раз, и каждый раз его категорически не устраивало, чтó и как музыканты играют, он вносил поправки в темп, характер, штрих, акценты и так далее – до полного изнеможения. Репетиция, рабочее время оркестра давно были просрочены часа на полтора, и его, просто в холодном поту, увели за сцену. Есть люди, которые сразу поставят по одному этому эпизоду почти что диагноз «перфекционизм» – это до того сильное, что почти уже болезненное стремление к совершенству. Был ли Малер «психом», в нашем понимании этого неприятного, обидного слова?
Любая музыка – даже в десятки раз более простая, нехитрая и «дешевая», чем у Малера, – это сложнейшая умственная работа, и с ней не справится не только человек, который «немного того» или «не в себе», но и профессионал, если он нервничает или сильно беспокоится о чем-то постороннем. Хитросплетения звучащих линий, десятки строк одна над другой, равновесие огромных оркестровых масс, форма, развитие – это никак не для пациентов в смирительных рубашках.
Но бывает и по-другому, и это можно услышать в музыке, которая построена именно на этом ощущении «разноголосицы мнений в одной голове», и при этом получается шедевр.
Однажды Малер, проходя с друзьями по городской площади в воскресный день, вдруг остановился в таком месте, где с одной стороны играл шарманщик, с другой доносились звуки любительского хора пекарей, а наискосок проходил военный оркестр местного гарнизона. От такого гвалта уйти бы поскорее, пока в ушах не зазвенело и не заболела голова, а он поднял руку и сказал (это на всю жизнь запомнила одна дама, которая там была): «Вот, слушайте, это и есть то, что я пытаюсь записать нотами! Вот истинная полифония, истинное многозвучие, многоголосие жизни…» (Одновременно это и шизофрения высшего порядка, если кому угодно.)
Малер первым сделал эту полифонию жизни предметом искусства – да так, что некоторым до сих пор страшно, а многие уже смогли преодолеть страх и услышать за этим красоту, какой до Малера не было ни у кого из классиков высокой, как сейчас говорят, «серьезной» музыки. И еще – к вопросу «как и из чего делаются шедевры?» Малер первым придумал, как сделать настоящим искусством все то бульварное, грязноватое, низменное, банальное, пошлое, что составляет для музыки и для слышащего музыку человека постоянную окружающую среду. Естественно, среда эта – как бы помягче сказать – не стерильна. Среда, в которой на самом деле живет и растет музыка, это не лаборатория, не церковный алтарь и не инкубатор, и не в белых перчатках ее там делают. Если кто-то будет говорить вам про «святость», «непорочность» и «чистоту» появления музыки на свет – не верьте ему! Строгие меломаны (и профессора консерваторий) частенько воспринимают ее – естественную среду, откуда берется музыка, – просто как досадный раздражитель, грязный фон, помеху. И очень этого пугаются, стараются оградить истинные шедевры от попадания на них этой «пыли», «копоти» – только не физической, природной, а звуковой, но тоже реальной. Посадить музыку под колпак невозможно, но надо ли так откровенно спорить с поклонниками «чистого», прокипяченного и отфильтрованного через белую марлю музыкального стиля? Малер говорит: надо! – и не словами, а нотами, что куда эффективнее и слышнее.
Симфония – как было принято у классиков, основоположников, столпов большой музыки – это железная логика плюс серьезные обобщения, концепции и выстроенная по кирпичику музыкальная форма, здание точно рассчитанных пропорций, почти что храм, во всяком случае – воздушный за2мок.
Малер говорит: ничего подобного! Симфония у Малера – это такое место, где сходятся линии многих интриг, драм, скандалов, обид, анекдотов. Где встречаются (иногда в первый и последний раз) почти все музыкальные персонажи, с которыми имел дело Густав Малер – дирижер, музыкант, фантазер, пророк, верхогляд – кому как больше нравится. Это полигон жизни, где дует с нескольких сторон, где опасно, и бояться какого-то одного сквозняка уже явно не приходится…
Траурный марш из Первой симфонии Малера стал первым случаем в истории музыки, когда была написана настоящая – страшноватая и захватывающая – карикатура, причем не в шутку, а на полном серьезе. Что может быть более святым для нормального человека, чем граница жизни и смерти, более серьезным, менее подходящим для всяких упражнений в остроумии, чем похороны? Но в том-то и дело, что никаких упражнений и никакого остроумия тут нет даже и в помине! Просто Малер здесь в первый раз показал свою настоящую хватку и характер как композитор – в полном смысле слова. Не просто мелодист или выдумщик, а человек, меняющий облик мира в ваших глазах, если вы слышите его как бы ушами Малера!
Говорят, что, когда Малер сам стоял за пультом, создавалось полное впечатление страшного и одновременно до слез смешного траурного шествия, и это действо просто завораживало… Особенно в тот очень короткий и совершенно неожиданный момент, когда вся процессия с каким-то отчаянным рвением пускается в пляс! Некоторым даже казалось, что Малер дирижирует как бы процедурой собственных похорон и слегка подсмеивается над той жалостью, которую это зрелище вызывает в его еще живом и очень больном сердце.
Малеру почему-то не по себе. Что с ним, в самом деле? У него нечиста совесть, у него долги, у него проблемы с любимой женщиной? Не будем задавать лишних вопросов, вернемся еще раз к началу третьей части малеровской Первой симфонии – симфонии, которую при ее первом исполнении в Будапеште под авторским управлением ждал вполне естественный сокрушительный провал. Публика узнала: вот характерные шаги процессии, которая явно ничего другого, кроме гроба, нести не может. Это ситуация, в которой все становится на свои места, хотя и не перестает быть карикатурой. Сходство с жизнью показано через гигантские преувеличения, через передразнивание этой жизни. Один проницательный историк музыки, что-то слышавший от самого Густава Малера, описал это так: траурный марш в манере Калло. И действительно, существует гравюра этого художника, где изображено нечто подобное: звери хоронят охотника, который всю жизнь гонялся за ними, ловил их силками, стрелял, наводил ужас на все население леса и округи. Вряд ли он был симпатичен – по крайней мере, тем, кому теперь выпало нести его ногами вперед. И Малер на глазах у изумленной публики нарушает знаменитую заповедь «хорошего тона»: о покойниках или хорошо, или ничего. И как нарушает!
На самом деле, то, чем пользуется Малер, вовсе не его изобретение, это одна из тех подсказок жизни, которые просто больше никто не услышал: студенческая песенка «Что ж ты спишь, братец Яков» старше нас с вами и Малера лет на семьсот. Вот только звучит она здесь в нарочито серьезном виде, как бы переодетая в черный похоронный пиджак не по размеру, взятый напрокат в бюро ритуальных услуг. «На алых подушечках награды Родины…» – это одна сторона дела, вполне официальная. Оркестр из жаб, дроздов, лисиц, зайцев, медведей вполне серьезно, очень даже натурально льет такие крокодиловы слезы, что можно расчувствоваться. Кстати, Малер ссылался здесь на так называемых «богемских» (то есть чешских) музыкантов, чьи фольклорные наигрыши дали ему повод пофантазировать. Правда, все дело в том, как это услышать. Вам никогда не приходилось быть в подобной ситуации на месте людей, про которых поэт сказал «и терзали Шопена лабухи…»? Если нет, то поверьте, что можно на вещи смотреть как бы из разных углов – либо «высокохудожественно исполнять шедевр скорби и печали» – за приличествующее случаю вознаграждение, либо «лабать жмура» (выражение тех, кто это делает). То есть играть на похоронах, а «жмур», как известно, на языке кладбищенских работников, это «клиент», покойник. И ведь играть клиенту можно и так, чтобы всем захотелось поскорее разойтись (причем это тоже творческая задача для музыканта с простуженными легкими).
Короче говоря, откуда Малер все это взял? Ведь это – злонамеренное опошление, искажение (если не осквернение!) таинства смерти, да и вообще, говоря высоким «штилем», духовных ценностей человечества! Но не будем повторять за министром пропаганды Третьего рейха доктором Йозефом Геббельсом и его советскими коллегами их заклинания, лучше послушаем, откуда что берется и что из чего делается… И где там эти музыканты-то народные? Подать их сюда!
Так вышло, что теперь нет уже ничего, что бы напоминало о той жизни, из которой Малер вырвался в дирижеры и в музыканты. Еврейское местечко Калиште в Моравии тогда – черта оседлости великой и нерушимой Австро-Венгерской империи. Хасидские нигуним – напевы и наигрыши местечковых музыкантов, которые на языке восточноевропейских евреев называются клейзморим («клейзмер» еще с библейских времен означает «орудие музыки», живой инструмент). Их манера «играть в музыку», когда чем веселее пляшут, тем грустнее мотивчик, отпечаталась у Малера в мозгу крепко-накрепко, как и интонации их речи, их способ молиться своему Богу, про который один маленький мальчик (сын хазана – то есть кантора), первый раз вместе с мамой попавший на верхний, женский этаж синагоги, сразу же спросил: «Мамочка, а почему папа плачет?» А папа не плакал – он вел службу в Судный день…
Вы спросите: а куда же все это делось? А вот куда: те же люди, которые находили, что музыку Малера надо запретить и изъять из обращения, чтобы ее никто больше не слышал, пришли к заключению, что еврейский вопрос надо решить окончательно. Построили сначала очень продвинутую расовую теорию, а потом и печи, газовые камеры, лагеря смерти для тех, кто имел несчастье родиться среди неполноценного народа, не имеющего права жить на земле. И шесть миллионов живых людей были уничтожены просто потому, что у них неправильный «лицевой угол» и они не уродились истинными арийцами, хотя многие из них значительно лучше говорили и писали по-немецки (на языке «истинных арийцев»), чем мясники и живодеры, которые писали на них доносы и водили их под конвоем. Правда, все это началось через тридцать лет после того, как Густав Малер умер, и больше чем через полвека после того, как он поставил точку в партитуре Первой симфонии. А еще несколько лет спустя десять нацистских преступников (доктор Геббельс тоже) были, по приговору Нюрнбергского военного трибунала, повешены за преступления против человечества – и висели как «истинные арийцы». Сыграл ли им кто-то «малеровский отходняк»? Жаль, если нет…
Итак, симфония – для Малера – это тот полигон жизни, где встречаются и клейзмеры, и звери, которые хоронят охотника, плача по нему фальшивыми слезами, и грубые деревенские танцульки со стуком деревянных башмаков, и звуки затихшего леса, и страшный марш, где тоже за решительностью и уверенностью проступают чьи-то тупые рыла и ослиные уши… А что еще? А еще, как живая, вдруг появляется тень Петра Ильича Чайковского. И в этом нет ничего удивительного, потому что тогда Петр Ильич был жив-здоров и уже очень знаменит…
Вообще-то, это вовсе не тень, а совершенно определенная, узнаваемая тема любви из оркестровой увертюры Ромео и Джульетта – такая красивая и запоминающаяся, что ее слишком часто «вырезают» из целого симфонического произведения, чтобы послушать отдельно в виде вечнозеленого лирического хита.
А Малер как бы дописывает ее за Чайковского, продолжая ровно с того места, где Петр Ильич остановился. Именно – как бы дописывает. Если положить эти два лирических «излияния» рядом, то можно пора-зиться, прежде всего… тактичности Малера. Будучи музыкальным карикатуристом такого класса, он почему-то не счел возможным хотя бы одним штришком высмеять «искреннее, светлое чувство» недостижимой любви, подшутить над Петром Ильичом. Интересно, почему?..
Получается так, что Малер как бы сталкивает лбами всех персонажей, которые до этого вообще не встречались. А в самых последних тактах провозглашает силами шести охотничьих рогов (валторн) ту музыку, отзвуки которой потом, много лет спустя, станут звуковым девизом приключений волка и зайца, мультипликационной эпопеи «Ну, погоди!»
Вот из чего делаются шедевры – из опережения времени, забегания вперед (иногда на пятьдесят, а иногда и на сто лет), карандашных набросков, отчаянно смахивающих на карикатуру, и обрывков собственных иллюзий, расставание с которыми и есть работа настоящего художника. Не всякий справится, но история все расставляет по своим местам, и Малер как живой говорит с нами о том, что его волнует и что уже не волнует, а только смешит…
Вторая симфония
Давным-давно, в XX веке, один человек, приехавший в Россию с Запада, сказал крылатую фразу: «Все там у них ничего, только с духовкой плохо». По-видимому, речь идет о сакральном, объемном, никак точно не определяемом понятии «духовности». Что это могло бы значить на языке простых (или очень непростых), но живых человеческих чувств, мы попробуем выяснить. Для этого нам потребуется всего одна жизненная история – только один эпизод в судьбе композитора Густава Малера. И одна его партитура, которая очень кстати называется Воскрешение, или Воскресение – Die Auferstehung. Одна ключевая фраза в этой партитуре по-немецки звучит так: «Du wirst auferstehen!» – «Ты воскреснешь!»
Добрая половина событий этой истории – до того, как им стать реальностью, – произошла в голове, в душе и в сердце Малера, причем было все это в маленьком провинциальном германском городе Касселе, бывшей столице ныне не существующего Вестфальского королевства. В сезоне 1883/84 года Малер служил здесь дирижером в оперном театре. Работу эту Малер довольно скоро бросил – она его не устраивала, так как Малер не мог сделать спектакли такими, какими хотел бы их слышать. Не хватало власти: хористы подчинялись главному режиссеру театра, а оркестр – главному дирижеру. И именно в этом театре у Малера была интрижка, а на самом деле бурный, страстный, пламенный любовный роман с некоей певицей-сопрано, причем мы никогда не узнаем с какой.
В письмах Малера его венскому другу Фридриху Леру имя возлюбленной ни разу не называется. Но как раз по этому поводу Малер и сочинил свои Песни странствующего подмастерья на собственный текст. Именно из них будет собрана потом его Первая симфония со знаменитым Траурным маршем, где, как казалось многим его современникам, «звери хоронят охотника и плачут по нему фальшивыми слезами». И тогда же, в Касселе, у него родится мысль о том, что в следующей своей симфонии он непременно должен хоронить героя Первой. И еще задолго до того, как это все будет занесено на нотную бумагу, Малер фактически придумал свою следующую симфонию. Первоначально планировалась некая одночастная оркестровая музыка минут на 20–25, которая должна была называться Totenfeier, что значит «тризна», поминки.
Премьера Второй симфонии состоялась более десяти лет спустя, 13 декабря 1895 года, в Берлине, столице Пруссии. Симфония очень сильно разрослась и увеличилась по сравнению со своей начальной версией – Totenfeier. Теперь это – полтора часа звучания, пять частей, хор, два солиста – как минимум сто сорок человек участников исполнения! Малер буквально идет на рекорд музыкальной гигантомании. Причем если верно то, что он сам говорил о своих симфониях как о «моделях мира в целом», то Вторая симфония – это модель молодого, только что созданного и явно очень опасного мира, где все постоянно заливает, извергается, взрывается, происходят огромные тектонические разломы, сдвиги каких-то огромных пластов. С точки зрения карьеры Малера, это – взлет: после премьеры о нем впервые начинают говорить как о композиторе, которого уже нельзя не принимать всерьез. То есть это, по сути, начало того пути, который через каких-нибудь пятнадцать лет сведет Малера в могилу.
Но вернемся немного назад. После очень скоротечной, нервной любовной истории в кассельском театре, после очень конфликтных, напряженных дирижерских работ в Лейпциге, Будапеште и много где еще, после премьеры Первой симфонии в Будапеште, где публика эту музыку откровенно провалила (она была шокирована, она явно узнала в лицемерии зверей, которые хоронят охотника, свое собственное лицемерие), с 1891 года Малер – главный дирижер Оперы в Гамбурге. Именно к этому времени относятся знаменитые слова Чайковского о Малере, сказанные, когда Петр Ильич приезжал сюда на первую немецкую постановку Евгения Онегина: «Здешний дирижер – не какая-нибудь посредственность…» Чайковского искренне восхищало, что он жизнь вкладывает в дирижирование спектаклем. Чистая правда, но заметим, что не только свою жизнь Малер очень охотно в это дело вкладывал. Он был очень жесток как дирижер, однако результат налицо: после одной из премьер Ханс фон Бюлов, легендарный музыкант, знаменитейший человек, преподносит Малеру настоящий лавровый венок с ленточкой: «Пигмалиону Гамбургской оперы». Пигмалион же, как известно, – это тот, кто из неживого делает живое.
Кстати, а кто такой Ханс фон Бюлов? Это не мешало бы уточнить для нашего дальнейшего «расследования». Об этом человеке много где можно навести самые интересные, самые разные справки. Не только в Гамбурге, где маэстро жил, почивая на лаврах, но и продолжая много работать. Не только в Берлине, где каждое его появление воспринималось не просто тепло, а с горячим энтузиазмом – стоячими овациями и т. д. Много разных справок можно было бы навести о Хансе фон Бюлове по всей музыкальной Европе, например в Петербурге, где было точно известно, кто выступал солистом при первом исполнении знаменитого Первого фортепианного концерта Петра Ильича Чайковского. Можно было бы навести о нем справки и в Мюнхене, столице Баварии, где тоже точно известно, кто осуществил, по настоянию баварского короля Людвига, историческую премьеру Тристана и Изольды Рихарда Вагнера. Причем эта работа стоила фон Бюлову катастрофы в его семейной жизни (после этого он поклялся «с таким проходимцем и мерзавцем, как Вагнер» дела больше никогда не иметь). Можно было бы навести о нем справки и в маленьком южногерманском городе Майнингене, где в герцогской капелле у главного дирижера Ханса фон Бюлова ассистентом работал не кто иной, как очень молодой Рихард Штраус, внук знаменитого мюнхенского пивовара и будущий классик XX столетия.
Бюлов – как уверяют нас знающие люди – невероятно двинул вперед искусство дирижирования, своими могучими руками он фактически создал те чрезвычайно раздвинутые рамки, которые определят роль дирижера в XX веке. И он увидел в том человеке, которому принес венок с надписью «Пигмалиону Гамбургской оперы», своего преемника по дирижерской линии. При этом амбиции Малера-композитора ему казались смешными, он абсолютно не признавал в Малере человека, который способен что-либо сочинить. А то, что фон Бюлов слышал из сочиненного Малером, он и в грош не ставил.
В 1894 году Ханс фон Бюлов умирает. День и час его пышных похорон, момент его отпевания – это момент рождения Второй симфонии Густава Малера, потому что в этот день и час в его голове происходят следующие события – если верить Малеру, они описываются примерно так: …я очень долго думал, нацеливался, как бы мне использовать хор в финале моей новой симфонии, симфония не клеилась. Я все думал, и меня каждый раз это останавливало: не обвинят ли меня в подражании Девятой симфонии Бетховена – ее хоровому финалу.
На похоронах фон Бюлова в самой большой гамбургской церкви Святого Михаила, когда хор под аккомпанемент органа запел хорал на слова Клопштока «Du wirst auferstehen!» («Ты воскреснешь!»), Малера, по его собственным словам, как громом ударило: при вспышке этой молнии одномоментно ему представилась вся партитура новой симфонии, которая начинается с торжества мертвых и заканчивается хоровыми возгласами: «Ты воскреснешь!»
И что же? Ведь со всем, что Малер сообщает о своей Второй симфонии, со всем, что написано в партитуре ее финала, полчаса длящейся огромной и сложной развязке всей драмы, приходить-то нужно было… знаете куда? Очень известный адрес: Вена, Берггассе, 19. К доктору Зигмунду Фрейду. Дело в том, что Вторая симфония Густава Малера – это от начала и до конца классический случай «эдипова комплекса», причем имевший место еще до того, как доктор Фрейд сделал свое сенсационное открытие. Открытие, в двух словах, выглядит очень страшно и непрезентабельно: оказывается, каждый человек в глубине души, причем в самой страшной ее глубине, в подсознании, желает обладать своей собственной матерью. Если разобраться в этом на уровне естественных человеческих чувств, то все не так страшно. Любой маленький человек, когда он является в этот мир – мир, где живут взрослые люди, рано или поздно сталкивается с тем (на уровне собственных младенческих переживаний, конечно неосознанных), что он видит в своем собственном отце соперника. Он ревнует мать к нему и обнаруживает, что его место уже, оказывается, кем-то занято, причем задолго до его рождения. И это болезненное переживание нужно просто перерасти и пережить, чтобы расти дальше. Однако у многих людей именно на этом месте остаются зарубки, потом они довольно долго болят – в гораздо более зрелом и сознательном возрасте.
Все в один голос говорят, что для Малера Ханс фон Бюлов – безусловно, «отцовская» фигура. Ему Малер наследует, причем почти во всех смыслах. Однако там есть проблема с ревностью: к фон Бюлову Малер ревновал… музыку. И странным образом получается, что смерть этого человека дает невероятный выплеск энергии – и эмоциональной, и музыкантской, и творческой. Причем, конечно, желание этой смерти было неосознанно для Малера, но оно коренилось именно в тех темных, плотных слоях его души, куда как раз доктор Фрейд и пролил жесткий, неприятный свет своим открытием эдипова комплекса. Кстати, любопытно еще и другое. По совсем другим причинам Малер и Фрейд встречались, и скорее всего именно на Берггассе, 19, в знаменитом кабинете с кушеткой. Правда, это было гораздо позже, почти десять лет спустя.
В записях доктора Фрейда есть мельком брошенное свидетельство о том, что (то ли в 1912, то ли в 1913 году) он консультировал дирижера и композитора Густава Малера. Это неправда, потому что в этот момент Малера уже не было в живых, Фрейд либо случайно перепутал годы, либо проявил таким образом особую врачебную деликатность. Но суть этой записи, воспоминаний и впечатлений Фрейда состояла в том, что у маэстро были очень серьезные проблемы в интимной жизни, которые с одного раза удалось если не решить, то очень существенно облегчить. А главное, Фрейд был поражен тем, как быстро и точно Малер ухватил самую суть психоанализа – метода, с помощью которого Фрейд вылечил очень многих тяжелых невротиков и очень многим людям действительно помог. Перед Малером одномоментно, сразу открылась вся картина психоанализа, точно так же, как это произошло с замыслом Второй симфонии во время похорон фон Бюлова.
23 февраля 1897 года тридцатисемилетний Густав Малер прошел обряд крещения в маленькой гамбургской церкви Святого Михаила (она находится шагах в ста от большой, где отпевали фон Бюлова) и стал ее официальным прихожанином. С точки зрения работы и карьеры, это был акт абсолютно неизбежный, поскольку законы тогдашней Германии, Австро-Венгрии (и России, кстати) были на сей счет абсолютно одинаковы: лицо, принадлежащее к нехристианской конфессии, не может занимать придворной должности. То есть, не будучи католиком, он не мог работать дирижером Венской придворной оперы на постоянной основе. С точки зрения своей совести, Малер совершил акт в равной степени необходимый и отвратительный – это был акт отказа от веры и убеждений его предков. Все они принадлежали к иудейской конфессии. И, вместе с тем, Малер искренне верил в то, под чем он поставил свою подпись, но его бесило, что его принуждают к этому обстоятельству в государственном порядке.