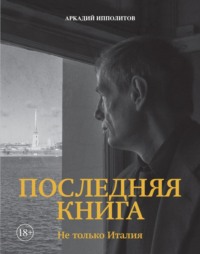Buch lesen: "Последняя книга. Не только Италия", Seite 6
Глава вторая
Золотой век Рима в Эрмитаже
Зал камей. – Геммы античные, средневековые и ренессансные. – Геммы барокко. – Камейный кубок. – Сервиз с камеями. – Парюра, камэ и внучки внучек пушкинских красавиц. – Ужин в Da Tonino и нечто о современной геммомании. – Сорок шесть отроков и четыре женщины, все сплошь золотые. – Золотой век. – Как Зал камей превратился в Зал итальянской майолики, а Российская империя в СССР. – Рафаэль и Рафаэли в России. – Римская инсталляция советского искусствоведения. – Майолика. – Ксанто. – Аретино, Джулио, Раймонди. – Приключения I Modi. – Римский Мешок: Рома и Катька
Впервые с тем, что Рим женщина, я столкнулся лет в тринадцать-четырнадцать. В Новом Эрмитаже есть чудный зал, ранее именовавшийся Залом камей, так как в нем, в специально сконструированных Лео фон Кленце роскошных конусообразных витринах, покоящихся на золоченых грифонах, была выложена на темном бархате эрмитажная коллекция древних и новых гемм, тогда – лучшая в мире. Первенство Эрмитажа обеспечила геммоманка Екатерина II, покупавшая самые знаменитые европейские коллекции за баснословные деньги. Увлечение глиптикой, то есть искусством резьбы на полудрагоценных и драгоценных камнях, издавна было привилегией элиты. Уже в Античности глиптика выделилась в самостоятельное искусство, так что резчики по драгоценным камням составляли отдельную касту, не смешиваясь ни с ювелирами, ни со скульпторами. Геммы – общее название для работ этих мастеров; геммы делятся на инталии, вырезанные в технике углубленного рельефа, и камеи – в технике рельефа выпуклого. Используемые в качестве печати инталии – наиболее древний вид гемм, их вделывали в перстни, так что они сопровождали своего владельца всю его сознательную жизнь. Оттиск личной печати имел права сегодняшней заверенной у нотариуса подписи, поэтому такого рода перстнем должен был быть обеспечен любой индивид для того, чтобы чувствовать себя полноправным членом общества. Инталии вовсю использовали в Древнем Египте и Ассирии, а камеи появились позже, где-то в IV веке до нашей эры: геммой с выпуклой резьбой запечатывать письма и документы неудобно, поэтому камеи – уже не утилитарный предмет, а чистое искусство. Тяга не только к красоте, но и к роскоши, пробудившаяся в Греции, ставшей частью царства Александра Македонского, проявилась и в глиптике: в эллинизме стали резаться камни столь большие, что вставить их в перстень и на палец надеть уж не было никакой возможности. Тогда же, в эллинизме, появились первые коллекции гемм.
Греки были лучшими резчиками, ибо они были лучшими во всем, что требовало умения и соображения, но римляне воевали и управляли лучше любого другого народа. Именно это заставляет признать, что война и управление не требуют ни умения, ни соображения; или требуют особого умения и соображения, скажем так. Римляне заимствовали у греков обычай печати, и насколько Римская империя была больше и существовала дольше царства Александра Македонского, настолько римских гемм больше, чем гемм эллинистических. Любой римский гражданин должен был иметь личную печать, ибо римский гражданин a priori был индивидом, чувствующим себя полноправным членом общества. Сначала римскими гражданами были только уроженцы Рима; в конце республики, то есть в I веке до нашей эры, гражданства добились все италики, как называли жителей Апеннинского полуострова, а в 212 году император Септимий Каракалла выпустил эдикт, даровавший право римского гражданства всем свободным людям империи. И всем им надлежало иметь свою гемму. Понятно, что геммы были разные, как из изумруда, так и из змеевика. Римляне, пользуясь особостью своих умения и соображения, греков победили, и Рим, поглотив Грецию, заразился от нее любовью к искусствам, в том числе – к глиптике. Резными камнями стали украшать не только перстни, но и кубки, вазы, мебель и даже стены. Стали резать большие камеи из разноцветных многослойных камней. Их размеры позволяли разместить уже не просто знак или отдельную фигуру, как на инталиях, но сложные многофигурные композиции, представляющие мифологические и исторические события. Стали популярны портретные камеи, а также сложнейшие аллегории, связанные как с политикой, так и с магией и тайными мистериями. Патриции создавали огромные коллекции камей и инталий, вместе с коллекциями появился особый рынок резных камней, историки упоминали имена выдающихся резчиков наряду с именами прославленных живописцев и скульпторов, родилось понятие редкости, и особо знаменитые геммы стали стоить целые состояния. Резали в основном всё те же греки, но для римских граждан, так что все камеи Римской империи называют римскими.
Христианство, отрицая язычество, дававшее сюжеты мастерам камнерезного искусства, тем не менее геммы во всю использовало, украшая ими церковную утварь, так что в крест, символизирующий страдания Господа нашего Иисуса, могли быть вделаны камеи с похищением Ганимеда или другими какими любовными приключениями Юпитера. Когда Западная империя пала и ее осколками стали править вожди варваров, камнерезное искусство на ее территории, в отличие от Византии, заглохло. Тем не менее камеи и инталии продолжали использоваться как в качестве печатей, так и как вставки в предметы священного обихода. В собраниях средневекового искусства полно монстранцев и остенсориев, предназначенных для хранения мощей, а также дискосов, дароносиц и дарохранительниц, украшенных античными камеями. При Карле Великом, попытавшемся возродить империю, Европа вышла из Темных веков. Искусство времен Карла и его наследников, Каролингов, называется романским: Рим продолжал быть главным ориентиром. В романике, дабы снабдить геммами как светских владык, так и церковь, оживилось и камнерезное искусство. Тем не менее средневековые мастера были малочисленны, а работы их грубее, но в силу того, что средневековые геммы встречаются гораздо реже античных, они сегодня ценятся чуть ли не выше, несмотря на более низкое качество.
Пятнадцатый век и stile all’antica обозначили новый этап в истории европейской глиптики. Резные камни вошли в повседневную моду. Камеями украшали все подряд, в том числе оружие и шляпы. Прекрасный пример – женский портрет Пармиджанино из Национальной галереи в Парме, получивший название Schiava turca, «Турецкая рабыня», хотя изображена и не турчанка, и не рабыня, а очень модная женщина. На ее голове – трендовая прическа тридцатых Чинквеченто (у Изабеллы д’Эсте на портрете Тициана из Музея истории искусств в Вене такая же), очень сложная, наверченная из чужих волос и золотых нитей, часто принимаемая за тюрбан, откуда и название «Турецкая рабыня». Шляпа-прическа (замысловатое сооружение из волос, тканей и драгоценностей не укладывалось каждый раз, а просто снималось-надевалось) украшена великолепной камеей с Пегасом, возможно намекающей на то, что дама каким-то боком причастна к поэзии. Ренессанс, возрождая, как ему и положено, то да это, возродил также и коллекционирование гемм.
Мода на геммы стала важнейшей частью стиля жизни. Современные резные камни итальянские аристократы использовали для украшений, а античные держали в своих студиоло, то есть кабинетах, гордясь и хвастаясь их редкостью, с любовью перебирая и пристально рассматривая. Тогда же родилось и изучение глиптики, превратившееся в особую науку. Интеллектуальные щеголи, подобные описанным Бальдассаре Кастильоне в его Il Cortegiano, «Придворном», проводили упоительные часы в обсуждении иконографии той или иной геммы, то портрета императора, то сложной мифологической сцены. Тогда же появились и первые книги, посвященные глиптике. Под stile all’antica подразумевался в первую очередь stile romano, римский стиль, так что камеи и инталии связывались именно с Римом, который и стал центром их производства. Геммы – один из видов камней Рима, а на камнях Рима мир держится, ибо сказал Иисус Христос апостолу Петру, посылая его в Рим: «Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16: 18–19). Из Рима увлечение геммами распространилось по всей Европе.
Спрос на камеи и инталии рождал предложение. Античные геммы добывали благодаря находкам и раскопкам, но также их выковыривали из старой церковной утвари. Потребность в геммах была столь велика, что мастеров, специализирующихся именно на резных камнях, появилось множество: в первую очередь в Риме, затем во всей Италии, а вслед за ней и во всей Европе. Современные камнерезы удовлетворяли потребность в камеях для бытовых нужд, но также создавали копии древних. Впоследствии копии выдавались за подлинники, а иногда геммы и сознательно подделывались. Впрочем, несмотря на то, что Ренессанс нарезал камей и инталий гораздо больше, чем Средневековье, ренессансные геммы все же более редки, чем древнеримские. Ренессанс ведь коротенький.
* * *
Барокко унаследовало ренессансный интерес к камешкам. Коллекционирование гемм чем-то родственно коллекционированию монет и медалей: резные камни представляют столь же разнообразный и познавательный материал по изучению времени, когда они были созданы. Глиптика и нумизматика – родственницы, но глиптика гораздо более роскошна: особо редкие полудрагоценные камни, не говоря уж об изумрудах и аметистах, дороже серебра и даже золота, и если монеты и медали – первое в мире тиражное искусство, то гемма всегда единственна и неповторима. Само собою, коллекционирование глиптики было привилегией богатых и аристократов, но изучали ее все образованные люди (впрочем, богатство, аристократизм и образованность были тогда почти синонимами). Страстным любителем гемм был Рубенс, собравший прекрасную коллекцию и слывший главным экспертом по «агатам и сердоликам», как он свои камни называл. Интальи продолжали использовать как печати, но декоративные камеи оказались гораздо более популярны. Барокко сильно демократизировало искусство глиптики, нарезало массу камей, но требовались все новые и новые, так что в XVII веке производство резных камней резко увеличилось. Лепили их куда угодно. На торжественном приеме в честь приезда Петра I в Копенгаген в июле 1716 года датский король Кристиан VI преподнес русскому царю золотой кубок, являвшийся наглядным примером увлечения геммами северян, подражающих вкусу итальянцев. Тулово кубка, покрытого синей эмалью и поставленное на ножки в виде дельфинов, было снизу доверху усеяно вмонтированными в него большими и маленькими геммами, как античными, так и современными. Никакого смысла в подборе не было, инталии и камеи были соединены лишь по размерам: маленькие укладывались в ряды, обрамляя большие, без всякого учета ценности, редкости, происхождения и различия в сюжетах. Пить из такого кубка было неудобно, и вид у него был причудливый, если не сказать дурацкий, но эффектный: лишенный всякой функциональности предмет вызывал ассоциацию с кондитерским изделием, походя на кекс, усеянный изюмом и цукатами. Кубок, прозванный «Камейным», хранился в личных покоях Петра. После его смерти Екатерина I передала его в Кунсткамеру, где эта дорогущая и несуразная вещь стала достопримечательностью, так что в 1730-е годы, при императрице Анне Иоанновне, голландский рисовальщик Оттомар Эллигер Третий запечатлел Камейный кубок на очень красивой акварели, с которой впоследствии была сделана гравюра.
Если бы Камейный кубок сейчас сохранился, он бы был гвоздем выставок, посвященных временам Петра I, но он известен только по рисунку. Екатерина II повелела камеи выковырять, а золото расплавить. Ее жестокое распоряжение было продиктовано соображениями bon goût, хорошего вкуса, так как императрице претило само существование столь безобразного урода, надсмехающегося над искусством глиптики. Так, как это часто бывает, хороший вкус, а точнее – убеждение в том, что ты им обладаешь, становится причиной уничтожения культурных ценностей, что может классифицироваться как преступление по статье 243.1 УК РФ, «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Екатерину простить нельзя, но можно понять. Она действовала из высших соображений и доказывала свою утонченность. Но Камейный кубок жаль. Ему, нелепому и неуклюжему, было присуще то особое очарование, что свойственно произведениям художников севера, когда они размышляют об Италии и Риме. Изготовленный аугсбургцами или антверпенцами – кубок не сохранился, так что понять, где он был изготовлен, трудно, но явно не в Дании, – Камейный кубок воплощал собой Italiensehnsucht, так что в даре датского короля русскому царю можно было бы усмотреть и некий символизм. Екатерине никто про символизм не сказал, сама она его не усмотрела, вещицу сочла нелепой и непочтительной к камнерезному искусству, поэтому ее и раскрошила. Принося кубок в жертву своей геммомании, императрица руководствовалась самыми что ни на есть разумными соображениями, желая возродить камеи и инталии, вернув им первоначальный вид, то есть произвела, по ее мнению, реставрацию. Чего же Екатерина добилась? Выковырянные из кубка геммы были присоединены к общей ее коллекции. Теперь античные геммы отправлены к античным, новоевропейские – к новоевропейским, и все они замкнуты в шкафах, где их никто не видит. Все очень научно, но целостность высказывания пропала. Интересный пример путаницы между «возрождением» и «реставрацией», продолжающейся до сих пор. Иногда такая путаница приводит к катастрофическим последствиям.
* * *
В XVIII веке в Европе была издана масса книг по глиптике, выпущено громадное количество гравированных альбомов с изображениями и описаниями гемм. Коллекционирование резных камней приобрело наукообразный характер, а заодно стало и признаком bon ton, так что хорошие коллекции делали их владельцам репутацию. Впрочем, уже в барокко любовь к глиптике превратилась в манию. Геммы и камеи стали столь популярны, что на потребу рынку их начали делать сначала из фарфора, материала все же менее дорогого, чем агаты и сердолики, а потом и из всего что ни попадя: кости, перламутра и даже фаянса, на чем особо специализировался Исайя Веджвуд. Определение «глиптика», «резные камни», уже устарело. В XVIII веке количество инталий и камей из разных материалов, пожалуй, даже и превзошло количество античных. Массовое производство до некоторой степени девальвировало искусство глиптики. Екатерина II, подхватившая свою геммоманию у европейской аристократии, вторглась в согласный и замкнутый круг западных глиптофилов внезапно и нахраписто, с немецким упорством и русским размахом. Она гордилась тем, что если все коллекционеры считают свои геммы штуками или, в лучшем случае, десятками, то она меряет их корзинами. Покупки императрицы вздули цены, что вызывало жалобы европейских знатоков, бессильных тягаться с русскими. Камей скопилось столько, что по высочайшему распоряжению для них был оборудован специальный кабинет с заказанными в Англии дорогущими шкафами с чудесными инкрустациями. Шкафы сохранились, стоят в фондах и по сей день. Императрица развивала и отечественное производство, основав камнерезные мастерские на Урале, благо там было найдено множество агатов и яшм, до того в Россию ввозившихся. Следствием ее геммомании стал заказ на один из самых удивительных памятников декоративно-прикладного искусства XVIII века, на знаменитый Сервиз с камеями. В сущности, этот сервиз такая же Italiensehnsucht, как и Камейный кубок, только в новом вкусе неоклассики.
Сервиз был изготовлен на Севрской фарфоровой мануфактуре в 1777–1779 годах, и, как императрица писала Мельхиору Гриму: «Севрский сервиз, который я заказала, предназначен самому большому любителю грызть пальцы, моему дорогому любимому князю Потемкину; но чтобы сервиз вышел как можно лучше, я говорю, что он для меня». Изначально был дан заказ на исполнение «стола на 60 кувертов»; все предметы должны были быть выполнены в новомодном неоклассическом духе без майсенских рокайльных завитушек и выглядеть римскими настолько, насколько римскими могут быть кофейники и чашки для шоколада. Главный мотив декора, выбранный Екатериной, был чисто римским – изображения античных камей, поэтому сервиз часто называют, как и кубок, Камейным. Цвет был выбран bleu celeste, «небесно-голубой», тайной получения которого владели только мастера Севра. Он очень дорог в производстве и, наверное, должен был напоминать о голубизне римского неба. Для камей было сделано сотни зарисовок с образцов из самых знаменитых европейских коллекций, и они, в отличие от второго по значимости мотива, вензеля Екатерины II, окруженного цветочными гирляндами, не повторяются. Всего в сервизе насчитывалось 803 предмета, если считать чашки и блюдца за два разных номера, но не считать крышек к горшочкам для конфитюра. Заказ был из ряда вон, количество трудодней художников и мастеров Севра, потребовавшихся на его изготовление, зашкаливало, поэтому объявленная фабрикой окончательная стоимость полного сервиза превосходила все мыслимые пределы: 331 362 ливра. Сумма намного превышала годовой бюджет княжества Ангальт-Цербст, исторической родины нашей матушки императрицы, так что Екатерина после того, как цена была озвучена, впала на некоторое время в ступор, а выйдя из него, потребовала проведения расследования. Севрская фабрика дала полный и внятный ответ, отчитавшись в каждом су, так что русскому размаху пришлось восторжествовать над немецким упорством. Матушка заплатила, и сервиз летом 1779 года отправили из Парижа в Руан. Там он был погружен на голландское судно и, проделав долгий путь через Северное и Балтийское моря, в октябре 1779 года прибыл в Петербург.
Окончательное количество предметов сервиза с камеями известно из реестра, сопровождающего записку о приеме в казенную сервизную палату Зимнего дворца из «дому Его Светлости князь Григорья Александровича Потёмкина фарфорового парижского десертного сервиза с серебряными канфетными золочеными приборами», датированную июлем 1782 года. По каким-то невыясненным обстоятельствам Потёмкин вернул сервиз казне, после чего он уже Зимнего дворца практически не покидал. Сервиз беспрестанно использовали во время торжественных приемов, так что уже при Николае I он, тогда называемый «Парижским», поистрепался настолько, что пришлось оформлять заказ на доделку разбитых чашек и тарелок на Императорском фарфоровом заводе. Известно, что в суматохе во время пожара Зимнего дворца 1836 года было украдено сто с лишним предметов. Кто именно это сделал, неизвестно, но спустя три года какие-то тарелки и чашки всплыли на лондонском антикварном рынке. Кое-что было выкуплено по распоряжению императорского двора, кое-что осталось в Англии. После революции Советы продали еще некоторое количество предметов из сервиза с камеями, осевших в западных музеях и частных собраниях. Большая часть все ж осталась в Эрмитаже, так что часть этой части, ибо выставлено не все, можно увидеть на экспозиции французского декоративно-прикладного искусства XVIII века, где самый дорогой фарфоровый сервиз в истории человечества представлен как выдающийся образец раннего периода неоклассицизма раннего Louis XVI. Заодно он служит и памятником царствованию Екатерины II, показывая «жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками» и «важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия» – как определил екатерининский золотой век Александр Сергеевич Пушкин в заметке о русской истории XVIII века.
Увлечение резными камнями достигло своего пика именно в неоклассицизме. Таким же курьезом геммомании, как и Камейный сервиз, стала парюра, хранящаяся в эрмитажной Галерее драгоценностей. Главным очарованием этого бального убора, состоящего из колье, узкой ленты-диадемы, двух брошей-бантов, ожерелья под горло, четырех браслетов на запястья, серег и пояса с застежкой, является множество больших и малых камей, как портретных, так и с мифологическими сценами. Забавен список материалов, что пошли на изготовление парюры: бриллианты, золото, серебро, папье-маше и стекло. Сочетание бриллиантов и папье-маше настолько уж из ряда вон, что уж даже и не безвкусно, а экстравагантно. Из папье-маше как раз и сделаны все камеи, причем довольно искусно; дело, однако, не в искусности, а в том, что они собственноручно изготовлены императрицей Российской империи Марией Федоровной. Она, как и ее свекровь, камеи обожала, но если Екатерина любила их покупать и перебирать, то Мария Федоровна предпочитала их делать. Разница принципиальная, обозначающая не просто разницу характеров, но разницу между Ancien Régime, Старым порядком, коего Екатерина была воплощением, и веяниями нового, идущими из Версаля, в котором Мария-Антуанетта сменила пышность Le Grand Trianon, Большого Трианона, на идиллию Petit Trianon, Трианона Малого. Веяния нового воплощала Мария Федоровна. Камеи, вырезанные и слепленные императрицыными ручками, были отданы в мастерскую Луи-Давида Дюваля, тогда считавшуюся лучшей в Петербурге, мастера которой и придумали ажурное обрамление из золота, серебра и бриллиантов. Парюра вышла замечательная, прямо-таки образец неоклассицизма периода его расцвета. Изготовленный в 1790-е годы набор стал подарком старшей дочери, Александре Павловне. Выйдя в 1799 году замуж за брата Франца II, императора Священной Римской империи, Иосифа Антона Иоганна Габсбург-Лотарингского, эрцгерцога Австрийского и палатина Венгерского, она увезла парюру с собой в Венгрию. Семнадцатилетняя Александра Павловна скончалась в 1801 году от родов, после чего Иосиф Антон Иоганн парюру вернул, потому что драгоценности были частью параферналии (от греческого παράφερνα), то есть взятыми из отчего дома персональными вещами, являющимися личным имуществом замужней женщины и не входящими в состав приданого, которое после замужества переходило под управление супруга и в случае смерти супруги оставалось в его владении. На параферналию муж не имел никаких прав, так что парюра вернулась к безутешной матери, ее и сделавшей, и осталась в Эрмитаже. Сейчас словечко «параферналия» вошло в моду, так называют предметный ряд, сопутствующий образу того или иного исторического периода, события, явления. Выражение «параферналия революции» подразумевает броневик, ленинскую кепку, перекрещенные ленты патронташа, булыжник пролетариата и его же красную гвоздику, а также много чего другого.
* * *
Ампир, в сущности, финальная стадия неоклассицизма. Лучшее исследование об этом стиле – роман «Война и мир». Обо всем-то Лев Николаевич пишет: и о платьях, и о еде, и о саксонском фарфоре, и о художнике Жераре, не забывает ни театр, ни музыку, ни салонные альбомы как специальный жанр и род творческой деятельности. Пишет он и о камеях, ибо без камей ампир непредставим:

Поцелуй © Дмитрий Сироткин, 2021
«– Nicolas, когда ты разбил камэ? – чтобы переменить разговор, сказала она, разглядывая его руку, на которой был перстень с головой Лаокоона».
Эту фразу произносит в романе «Война и мир» графиня Марья Ростова, в девичестве княжна Болконская, желая прекратить мучительный разговор со своим мужем Николенькой, злоупотребляющим рукоприкладством при разбирательстве дел с подвластными ему крестьянами. Увы, желая сменить тему, она попала в больное место, так как камэ с Лаокооном – графиня, называя мужа французским именем Nicolas, употребляет также и французское произношение, le camée, – было разбито как раз о нос старосты принадлежавшего им села. Великолепная сцена – жирная черта, подведенная под историей ампира, а заодно и русского золотого века, и всей европейской неоклассики. Вскоре после того, как граф Ростов расколошматил камэ с головой Лаокоона о переносицу старосты, треснуло и преклонение перед Лаокооном, восхищавшим как Винкельмана, так и Лессинга, несмотря на их принципиальное расхождение в том, чем именно в нем надо восхищаться: Винкельман талдычил про благородную простоту и спокойное величие грека, а Лессинг в пику ему утверждал, что грек не таков, а был грек чувствителен и знал страх. Европейская эстетика перестала ценить кумира Бельведерского, ибо пользы в нем не узрела, и, хоть мрамор сей ведь бог!.. да и хрен с ним, с богом, – печной горшок ведь нам дороже, ибо в нем пищу можно нам варить. Вместе с величием Лаокоона и кумира Бельведерского пошло на спад и влияние камней Рима. Примерно с сороковых годов, параллельно повышению ценности печного горшка, мода на геммы стала снижать обороты: в викторианстве камеи еще котировались, но по мере старения королевы Виктории отходили вместе с ней в область сенильного, постепенно превращаясь в атрибут достойных бабушек. Неким жизненным всплеском для камей стала мода belle époque на черные бархотки, на коих, если шея длинная и белая, камеи смотрелись сногсшибательно, чему пример гениальный Un bar aux Folies Bergère, «Бар в “Фоли-Бержер”» Эдуарда Мане. Что именно украшает бархотку jeune femme – я специально обозначаю главную героиню так, чтобы избежать ужасающего «барменша», обычно вставляемого в русские описания картины, – разобрать трудно, но даже если этот кулон и не камея, то вполне мог бы ею быть. Не резным камнем, а камеей подешевле, из кости, перламутра или даже фаянса.
Бархотки камеи не спасли, резные камни как-то еще продержались на плаву в модерне, но модернизм их потопил. Можно ли представить себе подругу авангардиста с камеей на шее? – в XX веке, веке нарастающих скоростей и укорачивающихся юбок, камеи, всегда намекавшие на нечто античное, древнее, стали просто старомодны, означая нечто бабушкино-прабабушкино. Прабабушками к тому времени стали пушкинских красавиц внучки: мопс на цепочке, в сумочке драже, седые власы, схваченные на затылке маленькой гулькой, утыканной шпильками, а воротничок застегнутой на все пуговицы блузы, отороченной мелкими кружавчиками, наглухо зашпилен камеей. В СССР брошь с камеей стала атрибутом «из бывших», этого уникального персонажа советской, особенно ленинградской, жизни. Старушка из бывших, с муфтой, с правильным петербургским выговором, артикулированно произносящая Дэ эЛь Тэ в ответ на хамский вопрос приезжего, спрашивающего, как, мол, гражданочка, в ДЛТ попасть, помнящая утраченные названия улиц, Летний сад под невскою водой, голод и холод двух войн и детство с боннами и гувернантками, стала символом города. В шкатулке на столе в своей комнатушке, оставшейся у нее после того, как квартиру, когда-то принадлежавшую ее семье, уплотнили – хорошо, что не выслали и не расстреляли, – она хранила брошь с камеей, доставшуюся от бабушки, внучки пушкинской красавицы, надевая ее по праздникам. В СССР старушка из бывших стала музой города, хотя двадцатое столетие в принципе к старушкам относилось весьма саркастично. В сущности, в Ленинграде она была тем же, чем Bona Dea, Благая Богиня, была в Риме: олицетворением благородства. Где-то глубоко внутри, в потаенном подвале памяти, у каждого, кто хоть как-то соотносился в советское время с культурой, хранился образ такой старушки, Благой Богини, в ее храме-комнатушке в перенаселенной коммуналке, заставленной предметами убогого советского быта, среди которых странной руиной выглядели екатерининский наборный столик, или роскошное ампирное зеркало, или карельской березы кресло-корыто с вычурными грифонами.
Но тикают часы, весна сменяет одна другую, розовеет небо, меняются названья городов, и вот уж не осталось даже и внучек внучек пушкинских красавиц, да и коммуналки стали исчезать, так что роль бывших перетянули на себя сначала авангардные оторвы вроде Лили Брик, а затем и они преставились; но надо ж с кем-то плакать, с кем-то вспоминать, поэтому роль бывших естественным образом перешла к сталинским дивам-красавицам. Двадцатое столетие ползло к концу, выдыхаясь, вместе с ним выдыхался и модернизм, и вот, вдруг, в девяностые, я, повстречав одну свою богемно-светскую знакомую, которая была одета всегда по моде и к лицу, вдруг вижу на ее безупречно небрежном прикиде брошь с камеей с античной головкой. Я в камею вперился, а знакомая, видя мой интерес, с гордостью сообщила: «Вот… в табачном ларьке купила…» – и пластмассовая камея из табачного ларька конца XX века – жирная черта, прямо треснувшее камэ Nicolas’а – отнесла меня к камеям из папье-маше парюры Александры Павловны. Увидев как-то Ренату Литвинову с целыми тремя брошами-камеями, по-постмодернистски акцентированно приколотыми к платью, я уж ничуточки не удивился. Модернизм умер, да здравствует постмодерн.
* * *
Эрмитажный Зал камей был, кажется, самым шикарным выставочным залом для резных камней, который когда-либо существовал на свете. Не удивительно: русская история резных камней от Камейного кубка до камей на груди Ренаты Литвиновой – история Российской империи. Всего в истории Европы было семь государств, главы которых носили титул «император»: Римская империя; Византийская империя; империя Карла Великого; германская Священная Римская империя; Российская империя; Французская империя, известная в двух выпусках, Первая Наполеона I и Вторая Наполеона III; Австрийская империя, с 1867 года ставшая Австро-Венгерской. Все они ориентировалась на Рим, и Россия, несмотря на свое особое геополитическое положение, не была исключением. Рим русскую душу держит крепко, время от времени доводя ее до поприщенского бреда. Империям камеи любезны, так что Екатерина не случайно их закупала в таком количестве: хотела быть очень римскою. Рим при ней был в моде. Сейчас он опять в моде.
Относительно недавно, будучи в Риме вместе с моим ближайшим другом, я через него получил приглашение отужинать с русской прекрасной поэтессой и прекрасной писательницей, а также прекрасной мыслительницей, и ее прекрасной семьей. Причин отнекиваться не было, ужинать в столь прекрасной компании было почетно, и вечер сулил быть столь же прекрасным, сколь и компания. К тому же мне было сказано, что поэтесса меня зовет персонально, потому что хочет что-то показать и посоветоваться. Я опоздал, мне надо было кое-что досмотреть по поводу самоубийства Борромини, которым я был тогда занят, но подойдя к ресторану, застал своих сотрапезников еще стоящими в очереди у входа. Ужин был назначен в ресторанчике Da Tonino, «У Тонино», в который римляне – римляне в первую очередь – приходят есть в самом прямом и простом смысле этого слова, как в столовую, ибо еда у Тонино хороша, хотя пряма (straight) и проста. Артишоки алла романа, то есть варенные в белом вине, там просто объедение, так же как и кода алла ваччинара, рагу из бычьего хвоста. Хорош и прост и сам ресторан с обязательными скатертями в красную клетку и с официантами, отнюдь не щеголяющими любезностью, но ведущими себя сурово и деловито. «У Тонино» столики не заказывают по телефону: в нем едят, а не сидят, поэтому, несмотря на толпу, ротация шустра, хотя и не суетлива. Очередь двигается быстро, так что ожидание заняло менее получаса. Кроме нас с моим ближайшим другом и прекрасной во всех отношениях писательницы, поэтессы и мыслителя, были еще ее прекрасный муж и прекрасный сын, маленький, но очень бойкий мальчик, оказавшийся прекрасным художником и тут же в очереди обаявший своими рисунками каких-то американцев, а также еще один художник, в возрасте. Все – русские.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.