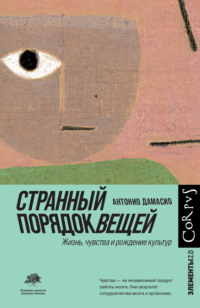Buch lesen: "Странный порядок вещей"
Посвящается Ханне
“Я вижу чувствами”.
(Глостер – Лиру)
В. Шекспир, “Король Лир”, акт IV, сцена 6.
“Плод слеп. Лишь древо зряче”.
Рене Шар
This edition published by arrangement with InkWell Management LLC and Synopsis Literary Agency
© Antonio Damasio, 2017
© М. Елифёрова, перевод на русский язык, 2024
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО “Издательство АСТ”, 2024
Издательство CORPUS ®
Истоки
1
Эта книга посвящена одному предмету интереса и одной идее. Меня долгое время интриговал человеческий аффект – мир эмоций и чувств, – и я провел много лет за его исследованием: как и почему мы эмоционируем, чувствуем, используем чувства для конструирования своего “я”; как чувства помогают или мешают нашим лучшим намерениям; как и почему мозг взаимодействует с телом, поддерживая подобные функции. По этой теме у меня есть новые факты и соображения, которыми я хотел бы поделиться.
Что касается идеи, она очень проста: чувствам – этим первопричинам, стражам и посредникам культурных усилий человека – не уделяют того внимания, какого они заслуживают. Люди выделили себя среди всех прочих существ, собрав внушительную коллекцию объектов, практик и идей, в совокупности именуемых культурой. Эта коллекция включает в себя искусство, философскую мысль, моральные системы и религиозные верования, правосудие, управление, экономические институты, науку и технологии. Но когда и почему начала она складываться? При ответе на этот вопрос часто упоминаются вербальный язык (очень важная способность человеческого разума), чрезвычайная социальность и высокоразвитый интеллект. Для тех же, кто склонен к объяснениям из области биологии, добавляется еще естественный отбор, действующий на уровне генов. Я, разумеется, не сомневаюсь ни в том, что интеллект, социальность и язык сыграли в данном процессе ключевую роль, ни в том, что организмы, способные к культурной инновации, – как и специфические таланты, используемые для этой инновации, – присутствуют среди людей благодаря естественному отбору и передаче генов. Идея состоит в том, что для запуска саги о человеческих культурах потребовалось кое-что еще. Этим “кое-чем” был побудительный мотив. Я подразумеваю здесь чувства – от боли и страдания до благополучия и удовольствия.
Возьмем медицину, один из самых значительных наших культурных проектов. Она объединяет в себе науки и технологии и зародилась как реакция на боль и страдания, причиняемые всевозможными недугами (от физических травм и инфекций до рака), чтобы боли и страданиям могли достойно противостоять благополучие, удовольствие, перспективы процветания. Медицина не была интеллектуальным спортом, занимаясь которым, игроки ищут остроумные решения диагностических загадок или раскрывают тайны физиологии. Она стала следствием конкретных ощущений пациентов и конкретных чувств древних врачей – в частности, сострадания, рождающегося из эмпатии, и многого другого. Эти мотивации сохраняются в медицине и по сей день. Любой из читателей знает по собственному опыту, что за последние годы процедуры у зубных врачей и хирургов заметно изменились к лучшему. Основная причина усовершенствований – таких как эффективная анестезия и точные инструменты – стремление справиться с ощущениями дискомфорта. Большую роль тут играет деятельность инженеров и ученых, и это – мотивированная роль. Мотив прибыли фармацевтической индустрии и производителей оборудования также очень важен: потребители нуждаются в сокращении страданий, и производители откликаются на это. Погоня за прибылью обусловлена различными мотивами – желанием развиваться, престижем, даже жадностью, и все это не что иное, как чувства. Невозможно рассматривать интенсивные усилия по разработке лекарств против рака или болезни Альцгеймера в отрыве от чувств в качестве мотивов, контролеров и посредников этого процесса. Точно так же невозможно рассматривать и менее интенсивные усилия, которые западные культуры предпринимают в сфере разработки средств от малярии в Африке, – или, скажем, практически повсеместную политику по борьбе с наркозависимостью, – игнорируя соответствующую сеть мотивирующих и тормозящих чувств. Речь, социальность, знание и разум – основные изобретатели и исполнители этих сложных процессов. Но именно чувства сначала мотивируют их, затем проверяют результат и, наконец, помогают внести необходимые поправки.
Суть идеи состоит в том, что культурная деятельность обусловлена чувствами и остается глубоко в них укорененной. И если мы хотим понять конфликты и противоречия человеческого бытия, нам необходимо учитывать благоприятные и неблагоприятные взаимодействия чувств и разума.
2
Как вышло, что люди стали одновременно страдальцами, христарадниками, весельчаками, филантропами, художниками и учеными, святыми и преступниками, добрыми властителями Земли и чудовищами, вознамерившимися ее погубить? Поиски ответа на этот вопрос, безусловно, невозможны без привлечения историков и социологов, равно как и деятелей искусства, зачастую интуитивно прозревающих скрытые закономерности человеческой драмы, – но также и без представителей различных направлений биологии.
Размышляя, как чувства могли не только породить первый проблеск культуры, но и оставаться неотъемлемым элементом ее эволюции, я искал возможности связать человеческое существование, каким мы знаем его сейчас, – с присущими ему разумом, чувствами, сознанием, памятью, речью, сложной социальностью и творческим интеллектом – с ранней жизнью, существовавшей еще 3,8 млрд лет назад. Чтобы отыскать эту связь, мне требовалось восстановить хронологию и реконструировать порядок развития и выработки этих важнейших качеств в ходе долгой эволюционной истории.
Реальный порядок появления биологических структур и качеств, обнаруженный мною, нарушает традиционные ожидания; он странен – о чем и сообщает заглавие книги. В истории жизни события не подчиняются сформированным нами, людьми, привычным представлениям о том, как конструируется прекрасный инструмент, который я назвал бы культурным разумом.
Намереваясь поведать о сути и следствиях человеческих чувств, я осознал, что наши способы размышления о психике и культуре не соответствуют биологической реальности. Когда живой организм в социальном окружении ведет себя разумно и с пользой для себя, мы исходим из предположения, что его поведение является продуктом предвидения, намерения, сложности, – при участии нервной системы. Теперь, однако, очевидно, что подобные виды поведения могли также стать продуктом простого и незатейливого устройства одной-единственной клетки – бактерии! – на заре биосферы. “Странно”– это еще слишком мягкое слово для описания реальности.
Можно представить объяснение, увязывающее воедино эти контринтуитивные результаты. Оно опирается на механизмы самой жизни и условия ее регулирования, то есть на совокупность феноменов, которые обычно обозначаются одним словом: гомеостаз. Чувства суть ментальные выражения гомеостаза, в то время как гомеостаз, действующий под прикрытием чувств, есть функциональная нить, связывающая ранние формы жизни с необычайным партнерством организмов и нервных систем. Этим партнерством обусловлено появление сознающего, чувствующего разума, который, в свою очередь, порождает самые характерные признаки человечества – культуры и цивилизации. Чувства – центральная тема этой книги, но они черпают свои силы в гомеостазе.
Связав культуру с чувствами и гомеостазом, мы укрепим ее союз с природой и углубим гуманизацию культурного процесса. Чувства и творческий культурный разум сформировались в ходе долгого процесса, в котором ведущую роль играл генетический отбор, направляемый гомеостазом. Соотнесение культуры с чувствами, гомеостазом и генетикой противостоит растущему отрыву культурных идей, практик и объектов от жизненного процесса.
Необходимо пояснить, что связи, которые я устанавливаю, не умаляют независимости, приобретаемой культурными феноменами исторически. Я не свожу их к биологическим корням и не пытаюсь растолковать все аспекты культурного процесса, прибегнув к помощи одних только естественных наук. Эти последние сами по себе не способны осветить всю полноту человеческого опыта; требуется еще и свет, исходящий от искусства и гуманитарных наук.
Споры о происхождении культуры зачастую бушуют вокруг двух конфликтующих объяснений: согласно одному, человеческое поведение обусловлено только независимыми от генов культурными явлениями, согласно другому, человеческое поведение – следствие естественного отбора, обусловленное генами. Но на самом деле нет необходимости отдавать предпочтение какому-либо одному объяснению. Человеческое поведение во многом продиктовано обоими факторами в различных пропорциях и порядке.
Как ни удивительно, обнаружение корней человеческой культуры в биологии других видов животных нисколько не умаляет исключительного статуса человека. Исключительный статус каждого человека проистекает из уникального значения страданий и процветания в контексте наших воспоминаний о прошлом и созданных нами воспоминаний о будущем, которого мы постоянно ожидаем.
3
Мы, люди, – прирожденные рассказчики и очень любим рассказывать о происхождении кого-то или чего-то. Нам это удается достаточно хорошо, когда предметом истории является вещь или отношения между людьми. Влюбленность и дружба – отличные темы для историй с начала времен. Однако при обращении к миру природы мы не столь успешны и чаще ошибаемся. Как возникла жизнь? Как зародились психика, чувства, сознание? Когда впервые появились социальные формы поведения и культура? Сложные вопросы, не так ли? Когда лауреат Нобелевской премии по физике Эрвин Шрёдингер обратился к биологии и написал свою классическую книгу “Что такое жизнь?”, он, стоит отметить, не озаглавил ее “Происхождение жизни”. Он понимал безнадежность подобной затеи, несмотря на всю ее соблазнительность.
Однако преодолеть соблазн невозможно. Эта книга представит некоторые факты, стоящие за возникновением разума, который мыслит, создает нарративы и смыслы, помнит прошлое и воображает будущее; а также представит факты, стоящие за механизмами чувств и сознания, – механизмами, отвечающими за взаимосвязи между разумами и внешним миром. В своей потребности справляться с конфликтами человеческого сердца, в своем желании примирить противоречия, вызываемые страданием, страхом, гневом и стремлением к благополучию, люди обратились к чувствам изумления и благоговения и открыли для себя музыку, танец, живопись и литературу. Не остановившись на этом, они продолжили усилия и создали нередко прекрасные, хотя со временем и ветшающие эпопеи, которые именуются религиозной верой, философской мыслью и политическим управлением. На протяжении жизней тысяч поколений это были некоторые из способов, помогавшие культурному разуму осмысливать человеческую драму.
Часть I. О жизни и ее регулировании (гомеостазе)
Глава 1. О состояниях человека
Простая идея
Получив травму и страдая от боли, мы, независимо от того, какова причина травмы или характер боли, можем что-то с этим сделать. Спектр ситуаций, способных причинять человеку страдания, включает не только физические раны, но и травмы, возникающие из-за утраты любимых или из-за унижения. Частые воспоминания, связанные с травмой, подкрепляют и усиливают страдание. Память помогает спроецировать ситуацию на воображаемое будущее и позволяет нам предвидеть последствия.
Люди способны отреагировать на страдание попыткой понять свое положение и изобретением компенсаций, коррекций или радикально эффективных решений. Помимо боли, люди способны испытывать противоположные ей удовольствие и энтузиазм в самых разнообразных ситуациях – от простых и тривиальных до возвышенных, от удовольствий, составляющих реакции на вкусы и запахи, пищу, вино, секс и физический комфорт, до чуда игры, до благоговения и восторга, возникающих при созерцании пейзажа или при восхищении другим человеком, сопряженном с глубокой привязанностью к нему. Люди также открыли, что обладание властью, доминирование над “ближними своими” и даже их уничтожение, устраивание хаоса и разбой могут приносить не только стратегически значимые результаты, но и удовольствие. Люди также могли бы использовать существование чувств удовольствия и удовлетворения в практических целях: в качестве мотива для того, чтобы задаться вопросом, почему вообще существует боль, и, возможно, озадачиться странным фактом, что при определенных обстоятельствах чужие страдания могут восприниматься как вознаграждение. Не исключено, разумеется, и то, что люди используют похожие чувства – такие как страх, удивление, злость, печаль и сопереживание, – дабы представить себе способы борьбы со страданием и его источниками. Люди могут осознать, что среди разнообразия доступных им социальных форм поведения некоторые – товарищество, дружба, забота, любовь – суть прямая противоположность агрессии и насилия и прозрачно ассоциируются не только с чужим, но и с их собственным благополучием.
Почему чувства успешно побуждают разум действовать столь выгодным образом? Одна из причин обусловлена тем, что именно чувства делают в разуме и что они делают с разумом. В стандартных обстоятельствах чувства заняты тем, что – без единого слова – сообщают разуму о благоприятном либо неблагоприятном направлении жизненного процесса в любой данный момент в пределах данного организма. Таким образом, чувства естественным путем квалифицируют жизненный процесс как ведущий или не ведущий к благополучию и процветанию1.
Еще одна причина, по которой чувствам удается то, что не удается голым идеям, связана с уникальной природой чувств. Чувства – не независимый продукт работы мозга. Они результат сотрудничества мозга и организма, которые взаимодействуют с помощью свободно распространяющихся химических молекул и нервных путей. Это специфическое, но упускаемое из виду партнерство гарантирует, что чувства будут вмешиваться в поток мыслей, который иначе был бы отвлеченным. Источник чувства – жизнь на грани, балансирующая между процветанием и смертью. В результате чувства оказываются волнениями в разуме, тревожными или приятными, слабыми или сильными. Они могут действовать тонко, выбирая интеллектуализированные пути, или интенсивно и заметно, прочно завладевая вниманием хозяина. Даже самые позитивные чувства обычно нарушают мир и спокойствие2.
Простая идея, следовательно, состоит в том, что чувства боли и удовольствия – от различных степеней благополучия до недомогания и болезни – суть катализаторы процессов постановки вопросов, понимания и разрешения проблем, то есть процессов, которые в основном и отличают человеческую психику от психики других видов живого. Задавая вопросы и разбираясь с возникающими проблемами, люди сумели выработать интересные решения для выхода из затруднительных жизненных ситуаций и создать средства для обеспечения собственного процветания. Они усовершенствовали пищу, одежду и убежища, придумали способы исцеления своих физических травм и заложили начала того, что в будущем стало медициной. Когда же боль и страдания причинялись другими (тем, что одни люди чувствовали в отношении других людей, или тем, что, по их мнению, другие чувствовали в отношении них), либо когда причиной боли служили размышления о собственном положении (к примеру, столкновение с неизбежностью смерти), люди опирались на свои растущие индивидуальные и коллективные ресурсы и изобретали множество ответов – в диапазоне от моральных предписаний и принципов справедливости до способов социальной организации и управления, но также и художественных проявлений и религиозных верований.
Невозможно точно установить, когда конкретно происходили все эти изменения. Их темп значительно варьировал и зависел от конкретных человеческих популяций и их географического местоположения. Достоверно известно, что около 50 000 лет назад подобные процессы уже шли полным ходом в Средиземноморье, Центральной и Южной Европе и Азии, – регионах, где присутствовал Homo sapiens (в компании с неандертальцами). А началось все с появлением Homo sapiens, то есть 200 000 лет назад или даже раньше3. Таким образом, можно предполагать, что человеческая культура зародилась среди охотников-собирателей, задолго до культурной инновации, известной как земледелие (около 12 000 лет назад), и до изобретения письменности и денег. Даты появления систем письма в разных местах хорошо иллюстрируют, насколько мультицентричны были процессы культурной эволюции. Письменность была впервые изобретена в Шумере (Месопотамия) и Египте в период между 3500–3200 годами до н. э. Но позже в Финикии появилась другая система письма, которую впоследствии использовали греки и римляне. Около 600 г. до н. э. письменность независимо была изобретена в Мезоамерике цивилизацией майя, на территории современной Мексики.
Применением слова “культура” к вселенной идей мы обязаны Цицерону и Древнему Риму. Цицерон использовал этот термин как обозначение “культивации” души – cultura animi; он, очевидно, имел в виду возделывание земли и его результаты, улучшение роста растений. Однако применимое к земле могло с тем же успехом применяться к душе.
Не приходится сомневаться в том, каково основное значение слова “культура” в наши дни. Словари говорят нам, что “культура” относится к проявлениям интеллектуальных достижений, рассматриваемым коллективно, и по умолчанию это слово относится к человеческой культуре. Искусство, философская мысль, религиозные верования, моральные установления, правосудие, политическое управление, экономические институты (рынки, банки), технологии и наука суть главные категории областей деятельности и достижений, описываемые словом “культура”. Идеи, отношения, обычаи, манеры, практики и институты, отличающие одну социальную группу от другой, принадлежат к общей сфере культуры, как и представление, что культуры передаются от человека к человеку и от поколения к поколению посредством языка и тех самых объектов и ритуалов, которые сами культуры и создают. Вот поле феноменов, рассматриваемых мною, когда в этой книге я упоминаю культуру или культурный разум.
У слова “культура” есть и другое распространенное значение. Забавно, но оно относится к лабораторному культивированию микроорганизмов, таких как бактерии; это значение отсылает к бактериям в культуре, а не к культуроподобным формам поведения бактерий, которые мы скоро обсудим. Так или иначе, бактериям суждено было стать элементом грандиозной истории культуры.
Чувства versus разум
Человеческая культурная деятельность традиционно объясняется в терминах исключительного человеческого интеллекта, блестящего перышка, воткнутого в шапку организмов, собранных бездумными генетическими программами в ходе эволюции. Чувства редко удостаиваются упоминания. Экспансия человеческого интеллекта и языка и исключительная степень человеческой социальности – вот главные факторы культурного развития. На первый взгляд, есть серьезные причины считать подобный подход обоснованным. Немыслимо объяснять человеческую культуру, не учитывая интеллект, стоящий за новыми инструментами и практиками, которые мы и называем культурой. Без языка, само собой разумеется, развитие и передача культуры невозможны. Что же касается социальности, значение которой прежде часто игнорировалось, то ее незаменимая роль ныне уже очевидна. Культурные практики зависят от социальных явлений, заключающихся в успешном взаимодействии взрослых людей, – это, например, умение двух индивидов, совместно созерцающих один и тот же объект, объединять намерения касательно этого объекта4. И все-таки в объяснении на основе интеллекта, по всей видимости, чего-то не хватает. Как если бы творческий интеллект материализовался без существенного повода и разгуливал сам по себе в отсутствие фоновой мотивации, стоящей за чистым разумом. (Назвать мотивацией выживание недостаточно, так как при этом мы исключаем из рассмотрения вопрос о том, по какой причине собственное выживание должно быть предметом обеспокоенности для индивида.) Или как если бы творчество не было включено в сложную конструкцию аффекта. Или как если бы развитие и оценка процесса культурной инновации происходили благодаря только когнитивным средствам, а реальная переживаемая ценность жизненных итогов, удачных либо неудачных, абсолютно не учитывалась. Если вашу боль лечат средством А или средством Б, вы полагаетесь на чувства, когда сообщаете, какой вид лечения уменьшает боль, а какой полностью снимает ее или оставляет без изменений. Чувства работают как мотивы реакции на проблему и как оценка успеха реакции или же неуспеха.
ЧУВСТВА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Чувства вносят вклад в культурный процесс тремя способами:
1. как мотивы интеллектуального творчества —
а) побуждая к обнаружению и диагностике нарушений гомеостаза;
б) определяя желательные состояния, которые стоят творческих усилий;
2. как оценка успеха или неуспеха культурных инструментов и практик;
3. как участники в обсуждении поправок, которые со временем требуется вносить в культурный процесс.
Чувства и, в более широком смысле, аффекты любого вида и интенсивности – суть нераспознанные участники культурной конференции. Все в зале ощущают их присутствие, но, за редким исключением, с ними никто не говорит. К ним не обращаются по именам.
В комплементарной картине, которую я здесь рисую, исключительный человеческий интеллект – ни индивидуальный, ни социальный – не стал бы изобретать разумные культурные практики и инструменты без весомых причин. Чувства всех видов и оттенков, возбуждаемые реальными или воображаемыми событиями, обеспечили мотивы и вынудили разум действовать. Культурные ответы создаются людьми, вознамерившимися изменить свою жизненную ситуацию к лучшему: сделать ее более комфортной, более приятной, сделать так, чтобы она вела к будущему благополучию, где будет меньше проблем и потерь, которые, собственно, и вдохновили человека на подобные инновации, – то есть, в конечном итоге, не только к будущему, где будет легче выживать, но и к будущему, где станет лучше жить.
Люди, впервые сформулировавшие золотое правило – “поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой”, – сформулировали его благодаря тому, что они чувствовали, когда с ними плохо обращались, или когда наблюдали, как плохо обращаются с другими. Логика, безусловно, играла некоторую роль, поскольку опиралась на факты, но в числе важнейших фактов были чувства.
Страдание или процветание, на противоположных концах спектра, являлись основными мотиваторами творческого разума, породившего культуру. Но таковыми были и переживания чувств, связанных с фундаментальными желаниями – с голодом, сексуальным влечением, социальным товариществом – или со страхом, гневом, жаждой власти и престижа, ненавистью, желанием уничтожить противника и то, чем он владеет или что он накопил. В действительности аффект стоит за многими аспектами социальности: он руководит формированием групп, малых и больших, и проявляет себя в связях, создаваемых индивидами вокруг своих желаний и вокруг чуда игры, – а также “прячется” за конфликтами из-за ресурсов и партнеров, выражающимися в агрессии и насилии.
Другие мощные мотиваторы – это переживание возвышенного, благоговения и трансценденции, порождаемое созерцанием красоты, естественной или рукотворной, либо же перспективой найти способы привести себя и других к процветанию или разгадать метафизические и научные тайны… либо, если уж на то пошло, самим фактом столкновения с нераскрытыми тайнами.