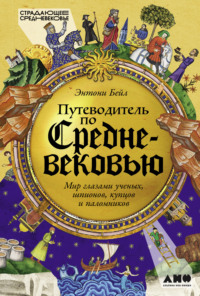Buch lesen: "Путеводитель по Средневековью: Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников"
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

Переводчик: Илья Кригер
Научный редактор: Станислав Мереминский, канд. ист. наук
Редактор: Лев Данилкин
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Александра Кaзакова
Арт-директор: Юрий Буга
Корректоры: Ольга Петрова, Зоя Скобелкина
Верстка: Андрей Ларионов
Иллюстрация на обложке: Ольга Халецкая
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Anthony Bale, 2024
First published as A TRAVEL GUIDE TO THE MIDDLE AGES in 2024 by Viking, an imprint of Penguin General. Penguin General is part of the Penguin Random House group of companies.
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
* * *

Моему отцу Джону
Предисловие
Изучая историю и культуру средневековых путешествий, я многие годы провел в компании путешественников прошлого, передвигавшихся по миру – столь не похожему на первый взгляд на современный. По путеводителям и путевым запискам Средневековья я изучал практические аспекты, прелести и опасности путешествий в те далекие времена. Погрузившись в чтение древних рукописей с рассказами о разного рода поездках, я наслаждался тишиной в библиотеках дворцов и монастырей на пространстве от Оксфорда до Стамбула. Следуя средневековым итинерариям1, я брел со своим багажом по улицам и церквям Рима и Иерусалима. Я мок под дождем в Ахене и Ульме, а в Пекине однажды ночью заблудился. Я изнемогал от пищевого отравления, изнывал от жары, паниковал из-за укуса клеща и боролся с симптомами коронавируса в совершенно не приспособленных для этого условиях. Опоздав на последний катер, уходящий с одного из атоллов на Мальдивских островах, я испытал приступ одиночества и уныния. Мне то и дело приходилось платить разные пошлины и дополнительные сборы, несколько раз меня угораздило оказаться в порту во время забастовок. А уж сколько раз я вынужден был в последний момент менять планы и раскошеливаться на всевозможные сертификаты, проездные документы и свидетельства, позволяющие добраться до пункта назначения!
В этой книге я опираюсь на путеводители и отчеты путешественников Средневековья. Читатель обнаружит среди них очень разных людей. Как обычно и бывает в дороге, мы успеем составить о них впечатление, но лишь самое общее, мельком. Я покажу мир таким, каким его представляли в Средневековье, в том числе места, о которых люди часто рассказывали, но не обязательно посещали. Путешественники, с которыми мы сведем знакомство, не всегда будут вызывать симпатию – ну что ж, дело житейское: на кого только не наткнешься в пути.
В сознании жителя христианской Европы идея путешествия носила характер базовой. Мы увидим, как это отражалось в составленных монахами картах мира (mappae mundi), в паломничествах к гробницам святых, в представлении о духовных поисках земного и небесного Иерусалимов, в старинных глобусах. Путешествовать – значит открыться новому знанию, а еще поездка придает взгляду путешественника независимость. Дома мы часто мечтаем о путешествиях и далеких землях, и именно дома удовольствия и преимущества путешествия очевиднее всего. Путешествие бесконечно соблазнительно, но действительность редко соответствует тому, что мы о нем рассказываем.
Средневековая литература о путешествиях шире любого отдельного жанра: это и автобиография, и записки натуралиста, и энциклопедия, и исповедь, и историческая хроника, и дневник, и этнографические заметки. Нередко сочинения такого рода грешат эгоизмом и содержат в себе неверные представления о мире, в том числе описания фантастических существ (муравьев величиной с собаку, женщин с драгоценными камнями вместо глаз, грифонов – наполовину орлов, наполовину львов – настолько сильных, что они в состоянии унести целую лошадь) и мест (источник молодости, остров амазонок, даже земной рай), о которых многие слышали, но никто не видел. В средневековую эпоху путешествие – это, по сути, перемещение между правдой и выдумкой. Помимо всего прочего, путевые записки неизбежно крайне субъективны – отчасти потому, что путешествие подразумевает встречи с неизвестностью, а отчасти потому, что авторы наследуют ошибки и негативные представления о других существах, порождаемые культурными и личными презумпциями.
Путешествие как культурный феномен не сводится к собственно перемещению в пространстве. Понятие wayfarer, то есть «путник», «странник», применимо ко всем, кто в дороге, в движении: к путешественнику, бродяге, переселенцу, пилигриму. Вынужденная миграция, изгнание из города или страны, деловая поездка, далекий поход для рекрута – все это перемещение, однако не путешествие. Как правило, путешествие сопряжено с чувством места, оно предполагает поездку целенаправленную или совершаемую по своей воле, желанную встречу с чем-то отличным от обыденности, перемещение, осуществляемое добровольно и по некоему плану. Путешествовать – значит отправляться в поездку, из которой ты собираешься (или надеешься) вернуться, самостоятельно решиться на то, чтобы вырваться – на время – из мира повседневности, возжелать приобрести в пути знание того или иного рода.
Кодекс Кáликста (Codex Calixtinus, ок. 1138–1145) – один из старейших образчиков путеводителя. Это сборник рекомендаций паломникам, отправляющимся в Сантьяго-де-Компостела: какие святые места следует посетить, где найти свежую воду и как уберечься от ос и оводов. Примерно к 1200 году письменные путеводители в Европе были уже достаточно распространены, а году к 1350-му, когда паломничества стали нормальной практикой, этот жанр (иногда называемый ars apodemica – «искусство путешествия», от греч. αποδημεω – «путешествовать») превратился в главный способ рассказать о собственном любопытстве. Средневековый тревел-райтинг оказался одной из тех сфер, где могло проявиться «я» рассказчика и где любопытство по отношению к миру выливалось в отчеты о лично увиденном и пережитом. Жанр путевых записок в Средние века пребывал в состоянии становления, он развивался постепенно, по мере расширения практики путешествий, однако адресатом его оказывались главным образом те, кто не путешествовал вовсе – или не мог путешествовать. Книги о путешествиях предназначались людям, испытывавшим потребность в экзотике, диковинах, знаниях о далеких, недосягаемых уголках мира.
Очень часто путешествия выступают инструментом для глубокого самоанализа или, как выразился автор книги об искусстве путешествий Ален де Боттон, «повитухами мысли». С одной стороны, стимулом для размышлений оказываются те разговоры, которые мы ведем сами с собой, сидя в вагоне или каюте, погрузившись в медитативное ожидание, в медленно тянущиеся минуты между отправлением и прибытием. С другой стороны, новые идеи возникают как результат встреч – приятных или огорчительных, озадачивающих своей новизной, непривычностью, непохожестью. В этой книге мы совершим путешествие по средневековому миру, чтобы исследовать связанные с путешествием ценности, удовольствия, страхи и желания. Мы сможем увидеть, как с помощью путешествий люди покоряли духовные и интеллектуальные вершины, и понаблюдаем за тем, как именно они реагировали на известный стимул взяться за перо, чтобы описать свои странствия для читателей будущего.
Даже в XXI веке, когда столько людей то и дело преодолевают – порой по необходимости, иногда по желанию – большие расстояния, путешествие никогда не бывает прямым и простым и всегда так или иначе совершается в зазоре между восхищением и изнурением. Более того, все путешественники пребывают в напряженных отношениях с теми местами, куда направляются, из-за разницы в степени финансовой свободы, встроенных в ту или иную культуру структур расизма и эксплуатации, наконец, из-за недопонимания. Элизабет Бишоп в стихотворении «Вопросы путешествия» замечает:
Континент, город, страна, общество:
Выбор всегда небогат и всегда несвободен.
Куда бы мы ни отправились, мы неизбежно берем с собой самих себя, свои ценности и запросы, и это стесняет и ограничивает нас – даже тогда, когда мы взыскуем свободы.
Я приглашаю вас в странствие по областям, притягивавшим средневекового путешественника. Иногда это точки в физическом пространстве – идентифицируемые, привязанные к конкретным адресам (некоторые можно посетить и сейчас), а иногда это мысленные ландшафты. Я привожу названия, в том числе топонимы, большей частью сообразуясь с их наиболее распространенными формами. В скобках названия приведены в тех случаях, если средневековое сильно отличается от современного – например, основанная венецианцами Тана и Азов (в нынешней России). В некоторых случаях я, учитывая весь спектр представлений о том, что такое миля, не унифицирую расстояния. Надеюсь, читатель простит мне неточности этого рода, ведь мы отправляемся в те места, где правители и культуры то и дело менялись. Придерживаясь выбранной темы для книги, я опираюсь на источники, относящиеся к позднему Средневековью (примерно 1300–1500 гг.) – периоду, отмеченному буйным расцветом технологий и культур путешествия. Так, именно в это время путешествия оказались глубоко связанными с чтением и литературой. Иными словами, культура путешествий развивалась параллельно с живой историей путешествий.
Вначале мы сосредоточимся на западноевропейской культуре, а после тропы примутся ветвиться и расходиться по всему миру в том виде, в котором он представлялся средневековым европейцам, – от Англии до антиподов. Я не претендую на авторство исчерпывающего путеводителя по средневековому миру: мы могли бы отправиться и в другие места – в Сантьяго-де-Компостела, Саламанку и Толедо, Новгород и Самарканд, Занзибар и Большой Зимбабве. Но – маршрут всегда приходится выбирать. Часто ведь бывало так, что паломничество в Рим и Иерусалим оборачивалось путешествием из любопытства и исследовательского интереса. Я приглашаю вас в скитания по времени и пространству, по сочинениям странников, которые способны как поколебать, так и расширить наши представления о человечности, опыте и знании.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ РОЗА ВЕТРОВ
Роза ветров, своего рода компас, служила для предсказания погоды и ориентирования в море. Ветра обычно получали названия в зависимости от позиции по отношению к Ионическому морю (между Сицилией и Грецией), где сходились морские маршруты Европы.
Север. Трамонтана – северный ветер, несущий воздушные потоки из-за гор.
Северо-восток. Греко, грегаль – сильный северо-восточный ветер из Греции.

Восток. Левант, левантера, субсолан – ветер, дующий с востока, где восходит солнце.
Юго-восток. Сирокко, сирок – сильный горячий ветер, дующий из Северной Африки.
Юг. Остро, аустер, меццоджорно – мягкий южный ветер, приносящий дождь.
Юго-запад. Либеччо, гарбино – порывистый юго-западный ветер из Ливии.
Западо-юго-запад. Зефир – умеренный западный ветер.
Запад. Поненте – сухой ветер с запада, где заходит солнце.
Северо-запад. Мистраль, маэстро – сильный холодный северо-западный ветер, дующий с юга Франции, вдоль основного морского пути из Венеции в Грецию.
Глава 1
Как выглядел мир в 1491 году, или Преамбула с Мартином Бехаймом
Нюрнберг
Железная арматура. Деревянные обручи. Ведра, наполненные жидкой массой на основе льняных волокон. Глиняная модель для формовки бумаги. Многоцветные краски и чернила. Умелые руки и пот мастеров – кузнецов, печатников и литейщиков. Именно эти ингредиенты нужны, чтобы создать сферу диаметром примерно два фута [60 см]. На дворе 1491 год, и в немецком городе Нюрнберге кипит работа над поразительной штуковиной – невиданной скульптурной конструкцией.
Ремесленники кропотливо изготавливают глобус – модель мира, каким они его знают. В своей работе руководствуются специально напечатанной картой.
Когда полая сфера готова, ее обмазывают клейкими белилами на меловой основе – и прилепляют к поверхности полоски пергамента. Затем местный художник на протяжении пятнадцати недель рисует на глобусе карту мира, то и дело сверяясь с бумажной. Все расходы (в том числе на вино и пиво для обедов в период, пока идет раскраска) взяла на себя городская казна. Готовый глобус помещают в одном из приемных покоев ратуши – великолепного готического здания в центре Нюрнберга, чтобы отцы города изучали устройство мира и услаждали свой взор.
Глобус сулил будущие богатства. Он подсказывал, где можно отыскать самоцветные камни, жемчуг, ценную древесину и наилучшие пряности, – весь мир торговли отныне к услугам нюрнбержцев.
Руководил этим многотрудным делом Мартин Бехайм (1459–1507) – купец, мореплаватель и путешественник. С конца 1480-х годов он был придворным географом португальского короля Жуана II Совершенного (ум. 1495). Король стремился расширить португальскую торговлю и свои владения в Атлантическом океане, в Африке и на Востоке, и Бехайм в этом плане отводил себе очень важную роль. Знали его, разумеется, и в Нюрнберге – ведь он, по его собственным словам, «объехал третью часть мира».
Глобус Бехайма – одна из старейших сохранившихся сферических моделей всей Земли. Он показывает, каким представляли себе мир в начале 1490-х годов, накануне открытия Америки, некоторые европейские путешественники, ремесленники, ученые и негоцианты.
Творение Бехайма, которое ныне экспонируется в Германском национальном музее в Нюрнберге, выглядит как современные глобусы. Оно богато украшено разноцветной росписью. На нем видны страны, указаны реки, народы, города, горы и животные, много сложного текста. На глобус нанесено около 2000 топонимов, сто рисунков и более полусотни пространных описаний. Он представляет собой не только трехмерную модель нашей планеты, но и своего рода энциклопедический текст. Глобус выглядит старинным, он потемнел и пережил несколько неуклюжих попыток реставрации. Сначала трудно разобрать, что там нарисовано. Но когда глаз осваивается, на поверхности проступают, сначала неотчетливо, острова и материки, моря и маленькие иллюстрации – целый мир, состоящий из мест, где можно оказаться, мир, наполненный множеством деталей.

Мартин Бехайм родился в Нюрнберге; место и время определили форму и содержание его глобуса. В эпоху, когда Бехайм руководил изготовлением глобуса, Нюрнберг был одним из крупнейших купеческих центров Европы, местом, где сконцентрировались великие богатства. Семья Бехаймов сделала состояние на торговле роскошными тканями – шелком и бархатом, а специфика этого товара, как известно, подразумевает международный характер сделок. По Европе (при посредничестве Венеции) разлетались ситцы, шелка, ленты, гобелены, дамаст и муар со Среднего и Ближнего Востока, из Персии, даже из Китая. Нюрнберг (подобно Аугсбургу, Брюгге, Кельну, Флоренции, Франкфурту, Лондону, Любеку и Парижу) был одним из процветающих, космополитичных – с активными внешними связями – городов, которые служили в средневековой Европе перевалочными пунктами. Зажиточный купец, отец Мартина (также Мартин) торговал в Венеции – в ту эпоху самом многонациональном европейском городе. Фамилия Бехайм указывает на то, что носящий ее человек «из Богемии». Своим богатством средневековый Нюрнберг обязан статусу главного рынка Центральной Европы: сюда стекались товары со всего Востока, в первую очередь пряности. Город был центром европейской торговли высоко ценимым и дорогим шафраном (его не только употребляли в пищу, но и применяли в медицине, красильном и парфюмерном деле). Купцы из Нюрнберга совершали свои сделки на огромной территории, от Шотландии до Крыма, и поддерживали торговые связи с генуэзской колонией в Константинополе и татарами Таны. Таким образом, неудивительно, что жизнь Бехайма протекала вдали от Нюрнберга. В начале карьеры он, согласно европейскому обычаю, устроил себе Wanderjahr – так по-немецки называется год, проведенный в странствиях. Молодой человек скитался из города в город и получал поденную плату, а затем, если ему удавалось добиться признания своих навыков, вступал в гильдию. То были не бесцельные переезды туда-сюда, а именно ученичество, накопление опыта. Мартин, юноша из патрицианской семьи, занялся торговлей текстилем и вел дела в Мехелене, Антверпене и Франкфурте, перемещаясь между крупнейшими торговыми городами. Побывал Бехайм и в Лиссабоне. Дальнейшая его жизнь связана в основном с Португалией. Бехайм женился на женщине по имени Жуана, выросшей на острове Фаял (в Азорском архипелаге), где ее отец, фламандец на португальской службе, был губернатором.
В конце 1480-х годов Бехайм часто путешествовал – был в Гвинее в Западной Африке и на Кабо-Верде, а возможно, и дальше – и много лет прожил на Азорских островах. Он умер в Лиссабоне в 1507 году. Бехайм посетил некоторые из самых отдаленных уголков известного мира, отмеченных на глобусе.
Бехайм и его глобус оказались в центре Европы, между востоком и западом: на востоке шла торговля, принесшая Бехайму, его семье и его городу богатство, на западе – развернулась его деятельность в Португалии, плавания по Атлантическому океану вдоль побережья Африки и у Азорских островов.
Приведенные на глобусе Бехайма сведения – переплетение фактов, имеющих отношение к международной торговле, со слухами и домыслами: так, на Сейлане (совр. Шри-Ланка) люди якобы не носят одежду, а обитатели Никоверана (Никобарских островов, восточнее Индостана) – псоглавцы. Мы узнаем, что исландцы – красивые белокожие люди, которые задорого продают собак и даром отдают детей иностранным купцам, чтобы избежать перенаселения своего острова, едят сушеную рыбу вместо хлеба (поскольку в Исландии не растут злаки) и могут дожить до восьмидесяти лет, так ни разу его не попробовав. Сообщается также, что это именно они добывают треску, которая затем оказывается на немецком столе. Но как разобраться, что из этого правда, а что ложь, где россказни, а где факты? Если мы (как и большинство жителей Нюрнберга XV века) никогда не бывали на Шри-Ланке, в Индии и в Исландии, то приходится полагаться на чужие рассказы.
На страницах этой книги мы посетим многие из мест, отмеченных на глобусе Бехайма, с оглядкой на «Книгу путешествий» (Book of Marvels and Travels) – путеводитель, послуживший создателям карты одним из главных источников. Авторство «Книги путешествий» приписывают сэру Джону Мандевилю (ок. 1356). Кем именно был Мандевиль, до сих пор остается не вполне ясным, но, так или иначе, книга стала одним из самых популярных средневековых сочинений о путешествиях, переведенным на множество языков и ходившим в списках и в печатных изданиях. Мандевиль описал поездку, которая началась в Англии как паломничество в Иерусалим, а затем превратилась в скитания ради утоления любопытства и жажды приключений (которые якобы довели автора до Дальнего Востока). Именно духом Мандевиля овеяны следующие главы моего повествования. Дело не только в популярности его «Книги путешествий», но и в том, что в ней отразились многие ключевые аспекты средневекового путешествия. Пожалуй, еще важнее то, что Мандевиль повествует о путешествии, о котором нередко читали, но которое в действительности не было совершено. Сэр Джон утверждает, что попал из Англии в Китай и что папа римский признал его книгу «правдивой». Однако никакого одобрения в действительности не существовало. Книга Мандевиля, написанная скорее в монастырской библиотеке, чем на постоялом дворе и в караван-сарае, – это собрание удивительных историй, очень неправдоподобных, а главный пункт отправления автора – царство истины. Все это вовсе не к тому, чтобы выразить недоверие к «Книге путешествий» как к источнику для понимания того, что в ту эпоху означало «путешествовать». Мир для Мандевиля и его читателей вроде Бехайма представлял собой энциклопедию стран и народов, живой атлас фантазий, из которого можно было извлечь антропологические, научные и этические уроки.
«Многим людям доставляет большое удовольствие слушать о диковинных вещах разнообразных стран»2, отмечает Мандевиль. Авторы повествований о далеких землях намеревались вызвать восхищение многообразием Божьего творения, чудесностью мира (даже при том, что дивиться миру – примерно то же, что заявлять: я не вполне понимаю, что именно вижу). Путешествовать – означало читать, а читать – означало путешествовать: места и рассказы о путешествиях осмыслялись сквозь призму ранее прочитанных книг, известий других путешественников или очевидцев, когда-то – давным-давно! – сообщивших что-либо о мире. В средневековой путевой литературе правда переплетается с неправдой, а свидетельства очевидцев соседствуют со старинными выдумками. И сочинение Мандевиля, и глобус Бехайма давали читающему или смотрящему возможность «посетить» разные места посредством текста и визуальных образов. Для ремесленников Нюрнберга и родственников Бехайма (например, его заточенных в нюрнбергские монастыри сестер Элсбет и Магдалены) глобус оставался единственным способом увидеть мир, и то, насколько реальны изображенные места, было менее важно, чем то, что они могли «рассказать». Контуры Европы на глобусе Бехайма узнаваемы и сейчас. Здесь точно воспроизведены очертания Британских островов (Шотландия доходит почти до верха глобуса). Франция – за счет Бретани – сильно выдается в море, а изображенный слишком крупным остров Джерси оказался дальше Финистера (одного из множества мест, называемых краем земли). Пиренейский полуостров вместе с Балеарскими, Азорскими и Канарскими островами нарисован аккуратно – с флагами, как на военной карте. Датский король со скипетром восседает на троне. Апеннинский полуостров (вместе с Сицилией, Корсикой и Сардинией) простирается далеко в Средиземное море.
На своих местах Балтийское и Черное моря, Кипр и Исландия. Не вполне верно изображенный Скандинавский полуостров уходит за верхний край, а там, где теперь расположена Россия, в основном пусто, хотя российские реки на месте.
Так или иначе, для человека XXI века, привыкшего рассматривать карты, бехаймовская Европа выглядит очень знакомой – как и береговая линия Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Нил течет через Египет. Красное море, Синайский и Аравийский полуострова – все на месте.
При этом представления Мартина Бехайма и мастеров, работавших над глобусом, об устройстве мира довольно сильно отличаются от наших: стоит выйти за пределы Европы – мир по Бехайму лишь отчасти соответствует нашим знаниям.
Особенно бросается в глаза то, что на его глобусе всего три материка: Европа, Африка и Азия. У полюсов почти ничего. В Арктике – открытое море, омывающее северные берега России. На юге, вместо Антарктиды, художники Бехайма изобразили орла, эмблему Нюрнберга, и голову Девы Марии, а также флаги, гербы и эмблемы своего города и Европы. Прочий мир – простирающийся за Татарией и Катаем3 (примерно Россия, Центральная Азия плюс Китай) – распадается на безымянные острова, как будто материки раскрошились и их фрагменты дрейфуют по бескрайним морским пространствам. В мире Бехайма два основных океана: Западный, который начинается у берегов Европы и простирается до Чипангу (Японии), и Индийский, который начинается где-то ниже Аравии и Тапробаны (Шри-Ланки) и почти достигает Явы. Еще один океан, Восточный (восточнее Явы и южнее Японии), соединяется с Западным примерно там, где мы теперь помещаем Тихий. Глядя на эти «ошибки», легко прийти к заключению, что средневековые европейцы мало что знали о планете. Однако глобус Бехайма подводит итог целых столетий исследований и открытий, касающихся облика планеты и тех чудес, которыми она полнится. Следует четко проговорить: люди Средневековья, как правило, не считали Землю плоской. Они знали, что планета имеет форму шара, но не понимали, как ее обогнуть. Всякий образованный западноевропеец был знаком с географическим сочинением «Трактат о сфере» (Tractatus de Sphaera) Иоанна де Сакробоско. В его взглядах чувствуется влияние в первую очередь Аристотеля, Клавдия Птолемея и переводных работ арабских астрономов. С XIII века «Трактат о сфере» был самым популярным элементарным учебником астрономии (она, наряду с арифметикой, геометрией и музыкой являлась частью квадривия – высшего университетского курса в Средние века). Сакробоско, наблюдавший, что Солнце, Луна и звезды в разное время появляются на небосклоне для «жителей Востока и Запада», признавал сферичность Земли. Кроме того, океан он полагал «приблизительно круглым». Сакробоско настаивал на существовании антиподов и поддерживал гипотезу климатических зон Макробия (ок. 400). Его получившая широкую известность схема подразумевала деление мира на пять зон: северную и южную (арктическую и антарктическую) холодные зоны, экваториальный пояс (необитаемый и едва проходимый из-за «солнечного жара»), а также северную и южную зоны с умеренным климатом. На глобусе Бехайма жаркий пояс отмечен экватором и сопровождается пояснением: «День и ночь там всегда, круглый год, длятся по двенадцать часов». Согласно сведениям на этом глобусе, Экваториальная Африка – «песчаная знойная страна, называемая жаркой зоной, малонаселенная». Зéмли зон с умеренным климатом, расположенные севернее и южнее этого пояса, таким образом, можно обоснованно считать обитаемыми. Из слухов о далеких землях (подобных воспроизведенным на глобусе) и подробных справок о торговых контактах с островами и государствами в районе Явы и Суматры следовало, что те земли не только пригодны для жизни в принципе, но даже обитаемы. Судя по сферичности модели Бехайма и тем границам распространения людей, которые на ней указаны, работавшие над глобусом мастера располагали близким к современному корпусом знаний.
Многие авторитетные древние географы и философы размышляли о существовании четвертого материка – обитаемой земли, лежащей за жарким поясом и отделенной от уже известных Африки, Азии и Европы.
В средневековой Европе широкой известностью пользовался «Сон Сципиона» («О государстве», кн. VI; 54–51 гг. до н. э.) Цицерона с комментариями Макробия. Цицерон описывает жителей далеких земель «восходящего или заходящего солнца», мир далеко за пределами населенной римлянами небольшой северной области (то есть бассейна Средиземного моря). Согласно Цицерону, население южных зон («жители которого, ступая, обращены к вам подошвами ног»4) никак не может сообщаться с северной зоной Европы, однако авторы глобуса Бехайма новаторским образом соединили их. Блаженный Августин (354–430) в сочинении «О граде Божьем» допустил возможность существования антиподальных областей, однако счел «крайней несообразностью утверждать, что люди могли, переплыв безмерные пространства океана, перейти из этой части земли в ту и таким образом положить и там начало роду человеческому от того же одного первого человека»5.
Многие географы и картографы считали, что Индийский океан – своего рода озеро, окруженное сушей. К XIV веку уже широко распространилось представление о том, что на юге простирается terra incognita – так или иначе достижимая и составляющая единое целое с исследованными и обжитыми землями. Точные контуры и координаты этих районов составляли предмет для дискуссий. Стало понятно, что жаркий пояс не является в принципе непреодолимым препятствием. Создатели глобуса Бехайма (следуя за Сакробоско и Мандевилем) сообщают, что Полярная звезда у антиподов не видна. Они указывают, что на лежащем восточнее Явы острове Кандин, а также на Яве и на окрестных островах Полярная звезда не видна, зато видна другая – южная Полярная, «по имени Antarcticus». Это оттого, что те земли расположены в антиподальной («обращенной ногами к ногам», от греч. anti «напротив» + pous, pod- «нога») Европе. Гильом Филластр (Старший; ум. 1428), французский кардинал и страстный географ, писал, что «те, кто живет в наиболее отдаленных восточных областях, обращены ногами к ногам тех, кто живет в наиболее отдаленных западных областях». Таким образом, уже во времена Бехайма предполагалось, что земель антиподов можно достичь, а необследованные районы, вероятно, населены людьми, живущими в ожидании как христианской проповеди, так и начала торговли с Западом.
В то же время приведенные (пусть в другой форме) на глобусе Бехайма сведения соответствуют обычной для Средневековья схеме устройства мира с тремя материками, которая теперь называется картой типа T–O. Это христианское представление о Земле – буква T внутри буквы O – доминировало примерно до 1500 года. Азия при этом оказывалась вверху, Европа – внизу слева, Африка – внизу справа. Букву T образовывали три водных объекта (обычно Дон, Нил и Средиземное море), тогда как букву O представлял собой Великий океан, омывающий известный людям мир – ойкумену. На глобусе Бехайма основное место занимают соединенные океанами Африка, Азия и Европа.
Глобус Бехайма называли по-немецки Erdapfel – «земное яблоко». Название отражает средневековое представление о том, что планета есть подобие органического «плода», живого шара. Господь по щедрости Своей наделил нас совершенным творением – его отражением и является нарисованный мир, испещренный маршрутами, которыми уже проследовали путешественники (в том числе сам Бехайм), и включающий в себя все те земли, которые путешественникам еще только предстояло увидеть за морем. Это похоже на крошечный шар с картой типа T–O с флорентийской фрески XIV века: его держит, как яблоко, младенец Иисус (средневековая Флоренция, как и Нюрнберг, была «космополисом», европейским центром торговли и богатства). Младенец Иисус держит в руке мир. Буква T здесь перевернута – вероятно, чтобы показать, как Бог сверху смотрит на мир.

Карта типа T–O изображала мир в триединстве, аккуратно поделенным Божьей рукой на части – материки. Это соответствует библейскому представлению, согласно которому род человеческий пошел от Адама (Быт. 9). Согласно этой этнографической теории, потомство Сима (одного из трех сыновей Ноя) населяет Азию, Хама – Африку, а Иафета – Европу. И если, как предписал Иисус (Мф. 28:16–20), апостолам христианства следовало «научить все народы», то и глобус (такой, как глобус Бехайма) помогал представить и связать воедино весь обитаемый мир, в котором Благая весть и торговля способны достичь некогда считавшихся недоступными мест, добраться до которых можно было, лишь преодолев раскаленные пустыни.