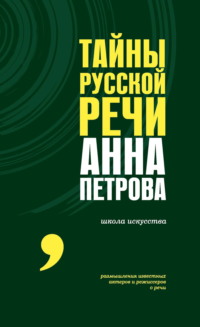Buch lesen: "Тайны русской речи"
Всякий талант неизъясним.
А. Пушкин. Египетские ночи
Школа искусства

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
© Петрова, А.Н., текст, иллюстрации, 2025
Часть I
Современная речь
Раздел I
Разговорная повседневность
Наверное, нет ничего разнообразнее, интереснее и выразительнее разговорной речи.
Живое слово свидетельствует о жизни, желаниях, надеждах и боли нашего мира.
Может быть, поэтому так важно говорить о речи, знать ее бытие, традиции, законы, правила и, конечно, любить, чувствовать и понимать, как и почему меняется «слово» в повседневной жизни.
Язык и речь дают нам знание о мире и о времени, в котором мы живем, отражают сегодняшние изменения наших представлений о правах и свободах личности.
Человек имеет право быть собой, сохранять во всем персональную идентичность, выражать свое мнение, говорить по-своему и своими словами.
Мы говорим «речь», но за этим коротким словом скрывается бесконечность намерений, обстоятельств, целей и задач.
Разговорная устная речь:
– речь в нашей повседневности, в бесконечно разных ее обстоятельствах;
– речь как диалог двоих – дружественных, враждующих, знакомых;
– речь публичная;
– речь как деловая встреча двоих или многих;
– речь как разговор случайный или подготовленный, обдуманный;
– речь как разговор интимный.
Речь, как живое, дышащее, меняющееся явление – свидетельство, а может быть, и барометр реальности. В речи мы слышим слова, но открываем сущностные подспудные изменения жизни человеческого сообщества.
Мы живем в совершенно новом звучании жизни и речи. Новые слова. Речевые обороты. Произношение. Темп. Стилистика. И, как знак нового времени, – совершенно иное отношение к тому, что мы привыкли называть и культурой, и стилистикой речевого поведения.
Сегодня мы вновь видим революционные изменения в речи, изменения в отношении к языку в обществе, глубинные разрывы с классической традицией – процесс естественный и в определенном смысле вечный. Время обретает отражение в языке и в речи.
Отметим некоторые свойства сегодняшней обыденной разговорности.
Растворяются стилистические и фонетические особенности разных слоев общества, сознательно используется примитивная, сниженная речь. Говорят «впроброс», почти демонстративно занимаясь чем-то другим, постоянно поглядывая на экран телефона, перебрасываясь репликами, отвечая порой лишь кивком, жестом, взглядом. Не только снижен интерес к партнеру, но и простая вежливость как будто необязательна. «Я» выходит на первый план. Популярны информативные фразы.
Может быть, это отражение современных способов общения? И современного одиночества? Может быть, в этом непрерывно звучащем мире нам достаточно разговоров в гаджетах?
Возможно, на стиль общения влияют современные скорости, безумный информационный поток, замена устоявшихся культурных образцов сугубо индивидуальными предпочтениями.
В СССР классическое искусство звучащего публичного слова, конечно, теряло свою когда-то универсальную ценность и сменялось разрешенными заранее проверенными цензурой написанными текстами, однако при этом телевидение запустило в жизнь огромный поток разговаривающих на самые разные темы людей – знающих, широко образованных, владеющих живой разговорностью, высокой речевой культурой: ученых, врачей, историков науки, искусства. Вспомним хотя бы «Очевидное – невероятное» с Капицей… Да и сейчас программы Т. Черниговской, Н. Цискаридзе, Ю. Меньшовой, живая речь некоторых журналистов и ведущих на Первом канале, РБК… Это не только содержательность, полнота смысла, мастерское владение русской речью, это и обширные знания, и умение мыслить, и, главное, потребность передать аудитории то новое, что открывается в понимании жизни.
И в то же время-читка, огромное количество неверных ударений: банты´, свекла´, торты´, красиве´е, при´нять, на´чать; звучат неудачные реплики: затопленная лужа, все взгляды прикованы в небо, играет значение, момент времени. И про склонение числительных мы будто совсем забыли: семистами, пятисот, тремстам, пятьюстами.
Конечно, не только требования, но и внимание, интерес к чистоте речи, соблюдению правил произношения давно стал очень скромным. Крохотная подробность: 1930-е годы, А. Мариенгоф о В. Мейерхольде: «ужас… вместо "и" говорят "ы"! Далекый, дикый, великый! А кто виноват? Малый театр! Перепортил он интеллигентную русскую речь! Не русскую, а санкт-петербургскую!»
Времена, менявшиеся непредсказуемо и масштабно, создавали и обновленное поле публичной речи, которая тесно сплетается с бытовой и, конечно, отражается в глубинных сдвигах культурной традиции. Сознательно или просто ситуативно в общедоступную эфирную речь ворвался и уличный жаргон, и убогое просторечие, и обыденная малограмотность.
Так, на рубеже перестройки (кстати, интересно, как быстро подхватываются народом определения переживаемого времени) постепенно стали меняться и двоиться смыслы и понятия. Сначала это было незаметно, а потом совершенно очевидно. Так произошло со словами «коммунист», «демократ», «либерал», с понятиями «левый» и «правый», «оппозиция», «феминизм», «терроризм»… Эти слова, превращенные в нашем сознании в свою противоположность, наверное, знак времени – привычные значения слов теряют смысл, выхолащиваются, наполняются иным, современным содержанием.
Прекрасные понятия «новая искренность» и «новая этика» подчас выхолащиваются и превращаются в циничную, наглую вседозволенность.
Так, например, происходит со словом, родившимся в 1960-е годы и радостно звучавшим повсюду, – «космонавты». И вот теперь оно получает иной смысл…
Обнаженность высказывания, так полно звучащая в матерной речи, приобретает особую ценность. В быту мат существовал всегда, с этим не поспоришь. Но такое широкое распространение в речи общественной, публичной ему и не снилось. Мы слышим его и в речи блогеров, и в выступлениях на собраниях, и в диалогах значимых персон в интернете и на YouTube. В письменном тексте – не только в блогах, но и в художественной литературе, и даже со сцены он звучит все чаще и чаще.
Матерная речь всегда была табуирована, теперь же она десакрализуется, что особенно слышно в речи молодежи.
Засилие матерных определений событий постепенно лишает их оскорбительной окраски. Это более не ругательство, а констатация факта.
Мы же знаем, что в русском языке два матерных слова могут выразить и вершину эмоционального восторга, и глубину падения. Все решают, по сути дела, обстоятельства их использования и контекст. Вот как об этом говорит Ю. Лотман: «Замысловатый, отборный мат – одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях. Он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит в быт игровой элемент, который психологически чрезвычайно облегчает переживание сверхтяжелых обстоятельств».
А что думают люди театра? Их мнение – результат внимательного вглядывания в реалии жизни.
Сегодняшняя драматургия, внедряя матерную речь, широко использует право новой искренности, но театр реагирует на слово написанное и слово сказанное по-разному. И О. Ефремов, и О. Табаков считали, что на сцене слова, как и характеры, многозначны, и мат не может занять значимое место в спектакле.
По мнению Е. Миронова, «когда на сцене появился мат, он нашел свою маленькую нишу. Но он не займет пространства большого никогда. Это интересно, пока это новое, пока все голодные. Это как слово "сука" у Фигаро о Сюзанне. На этом можно продержаться 1–2 спектакля. А дальше вдруг я для себя понял, что срез матерных людей есть, но показывать их напрямую – это не театр. Надо работать крупнее и социальнее».
Все эти процессы происходят у нас на глазах, мы и участники, и жертвы этих перемен. Самые большие жертвы этих перемен, конечно, дети, потому что они с этим сталкиваются и в школе, а слово – это заряд невероятной силы. Сказанное слово – клеймо, оно прицепляется, и его уже не оторвать. Может быть, поэтому слова так опасны, высказанное «не вырубишь топором»; каждый, услышав сказанное, может понять нечто о самом говорящем; люди, начинающие входить в профессиональную среду, постепенно погружаются в ее поведенческую и речевую стилистику.
Картина «речевого мира» бесконечно разнообразна, и это стало очевидным прежде всего с появлением и развитием интернета. А уж появление социальных сетей полностью перевернуло наше представление о публичном слове и сделало публичное высказывание возможным для всех без исключения – было бы желание. И этой возможностью пользуется огромное количество людей. В этой ситуации есть свои особенности, свои преимущества и угрозы.
Интернет изменил отношения между стихией языка и стихией речи. Знакомые и незнакомые, чужие и свои спорят, обсуждают, доказывают. Но чаще всего просто высказываются «рассудку вопреки, наперекор стихиям».
Язык один, поле существования общее и практически не имеет границ, а воспитание, культура, речь индивидуальны.
Параллельный мир в виде «другой речи» живет в этом общем пространстве и у обычных пользователей, и у деятелей новой журналистики – у блогеров.
Язык блогеров – самое популярное явление сегодняшней речевой культуры, развивающееся как новое искусство. Огромное количество блогеров, как талантливых, так и совершенно бездарных, разговаривают и пишут в «прямом эфире».
В торопливых «разговорах» в интернете, в социальных сетях люди выражаются кратко, спонтанно, даже бесцеремонно. Диалог идет «начерно», как мгновенная эмоциональная реакция: полуфразы, сознательно сниженная лексика вплоть до мата.
Блогерская речь, безусловно, активнейшим образом влияет и на повседневную речь, на ее восприятие, оценку.
Право каждого человека на публичное высказывание категорически меняет отношение к тексту. Профессия литератора, писателя, журналиста уникальна, литературное произведение, как и любое художественное произведение, требует духовных усилий, работы над собой. А сейчас в интернете любой человек становится автором. Свобода личности, свобода языка, отсутствие ограничений, безграничная толерантность вызвала к жизни высказывания в условиях «новой правды» – со своими частными намерениями, с явным желанием навязать всем свой взгляд как единственно верный. Блогер подчас категоричен, слов не выбирает и часто глубоко безразличен к чувствам другого человека. Не нравится – не смотрите.
Итак, в интернете появилась и живет своя речь, свершается переход от речи публичной, как текста продуманного, многозначного и метафоричного, к бытовому, разговорному, спонтанному слову. Не приходится удивляться, что и литература начинает говорить языком интернета.
В активную разговорную стихию интернета вовлечены сейчас миллионы людей, и мир этот постепенно создает свои законы, свои зоны успеха, своих героев.
Очевидно и то, какими темпами активизируется наша жизнь в эфире в условиях онлайн – сегодняшней «удаленки»! И чем сложнее события, и прежде всего политические, тем больше мы, жители интернета, жаждем обрести собеседников и их пытаемся находить.
На фоне резкого падения «культуры речи» нарастает и большое общественное беспокойство по этому поводу, и хорошая речь становится в последние годы категорией статусной. Недаром многие публичные люди – политики, бизнесмены, журналисты, преподаватели, учащиеся – берут уроки речи. И театр, театральная школа с ее огромным опытом и уникальными знаниями о живом слове объективно полезны, а по сути – необходима…
1. Речь на сцене в меняющемся времени
Современный театр бурно откликнулся на новое время, этот отклик оказался еще более сложным, стремительным и противоречивым, а «сценическое слово», как это и должно быть, стало вернейшим отражением, а точнее, зеркалом или увеличительным стеклом.
Драматический театр в силу своей природы живет в бесконечном и бездонном море живой речи, глубоко и честно ее познавая. Вглядываясь, понимая, свидетельствуя.
Искусство, зная прошлое и настоящее, приоткрывая, а порой «прозревая» будущее, помогает увидеть самые глубинные и, может быть, таинственные явления жизни.
Дарование, опыт, знания мастеров театра нередко быстрее и глубже открывают, обнажают тончайшие законы «жизни человеческого духа», как прекрасно сказал К. Станиславский.
На каждом поворотном этапе жизни театра возникает проблема слова, его функционирования, его смысла, содержания и даже необходимости.
В театре, как и в жизни, речь неотделима от человека и, конечно, отражает процессы, происходящие в разговорной речи.
Речь на сцене – лакмусовая бумажка происходящего в реальной жизни, одно из самых точных ее свидетельств, всегда рождает столкновения и споры.
Спорным становится все: речь и подлинность жизни слова, речь как данность актера и речь как характерность образа, как стилистика спектакля, как режиссерское решение.
Слова живы, пока погружены в подлинность и смысл сегодняшнего меняющегося контекста. По словам М. Захарова: «Просто слова, даже самые высокие и важные, перестали иметь самодостаточную ценность».
Как только театральное слово начинает звучать фальшиво или недостаточно убедительно, это свидетельство: что-то кардинально новое происходит в жизни. Это важно понимать.
Да и отношение к слову меняется на каждом новом этапе развития театральной культуры. Проходит 15, 20, 25 лет, и новое поколение заявляет о своем понимании «современной речи» и своем несогласии со звучанием, да и местом сценического слова.
Если сегодня мы вновь видим революционные изменения в речи, изменения в отношении к языку в обществе, глубинные разрывы с классической традицией, то что же говорить о театре, где все эти катаклизмы очевидны, слышны, и многое рассказывают о жизни.
Именно театр как искусство, как публичное зрелище, открытое для людей, по справедливому мнению самых признанных мастеров современного театра, – носитель эталона речи.
По существу, режиссеры, актеры не только «носители», но и эксперты речи в ее реальности, в ее историческом развитии.
Мастера театра, пожалуй, первыми улавливают сигналы, звучащие за словами, предвидя их будущую значимость, и посылают актуальные запросы. Какие тайны живого слова хранит русский театр? Какие открытия делают люди театра? Какие пути безошибочно прокладывают?
Полвека назад я стала предлагать театральным людям – из тех, кого любила и знала, – поговорить о речи: и разговорной и сценической. И в последние годы, уже в XXI веке, вновь задавала вопросы артистам и режиссерам. Поначалу меня удивляло, что все достаточно занятые мастера с большим участием и желанием соглашались встретиться и поговорить. Сорок лет назад – М. Кнебель и Г. Товстоногов, а сегодня – А. Бородин, В. Фокин, К. Райкин, Е. Миронов, К. Богомолов и К. Серебренников.
Это были и длинные домашние разговоры, и краткие записи в перерывах репетиций, а иногда мастера смотрели на вопросы и говорили: «Беру с собой, надо все обдумать…». Так появились анкеты с вопросами и ответы мастеров театра. Публикуем их на страницах этой книги. Подлинники хранятся в музее МХАТ им. Чехова. Размышления актеров и режиссеров о речи для нас очень значимы.
Что изменилось за полвека?
Что стало очевидным? Что ушло в прошлое? Что кажется новым или новаторским, а на самом деле им не является?
Какие тенденции в развитии языка и речи отражены в сегодняшней театральной практике?
Какие открытия делают люди театра, какие пути безошибочно прокладывают?
Что думают о современной разговорной речи режиссеры и актеры, для которых жизнь слова составляет сердцевину профессионального бытия?
Что предлагают для совершенствования речи в нашем социуме?
Давайте заглянем в ответы.
Театр всегда чутко слышит и оценивает звучащее слово, понимает его значимость для жизни и, конечно, говорит о снижении речевой культуры в стране и нарастающей безграмотности, о недостаточном владении речью выпускников школ, о набирающем силу потоке речевых дефектов у детей и подростков.
Речь на сцене для всех мастеров – предмет серьезного обсуждения, споров и беспокойства.
Прежде всего актеры говорят о том, что сценическая речь должна быть адекватна живой речи вне подмостков.
Еще в конце века двадцатого большие артисты, блестяще владевшие «разговорностью», отмечали, что «в театре сейчас обычная московская речь, в отличие от речи 40‑х годов, и нужно выполнять чистые московские нормы». И А. Грибов, и И. Тарханов отмечали, что «современная» манера приближается к истинному разговорному языку – и это хорошо!
Но существенный вопрос: в жизни, как на сцене, или на сцене, как в жизни? В жизни, где общение с партнером или партнерами только ими и ограничивается, не так важна разборчивость, четкость, звучность речи. На сцене зрительный зал становится свидетелем, а то и участником сценической реальности.
И, может быть, давние слова Г. Товстоногова о том, что сценическое слово не может быть «подмято под бытовую речь, а простота и похожесть недопустима так же, как недопустима риторика» – актуальны и сегодня?
Все авторы наших анкет, конечно, имеют свой взгляд на современную речь, ее достоинства и недостатки.
Ю. Киселев видел идеал в речи осмысленной, действенной, «насаженной на подтекст»; как и другие мастера, он считал большим достижением то, что речь стала стремительней и проще, в ней все ярче слышно звучание «речевого потока», целостность и ясность смысловой линии, четкость движения по перспективе. Реплики все больше сливаются, объединяются общей задачей, вбирая паузы, снимая знаки препинания.
И большинство режиссеров подчеркивают, что этот смысловой поток существует как мелодическое единство, как целенаправленный жест, вне разнообразного интонационного окрашивания.
И в этом плане мастера единодушны в своих ответах: погружение текста «внутрь» за счет экономии внешней выразительности схвачено очень точно современной театральной культурой.
Отсутствие подчеркнутой интонационной раскраски текста, адекватность живой речи, поиски современного произношения – мастера считают достоинством современного театра.
Но и издержки оказались велики!
Еще в конце 1970-х годов мастера говорили о множестве проблем, резко осуждали манеру речи на сцене, которую стали называть «шептальным реализмом».
«Невнятность в погоне за органикой» (С. Пилявская); «война – всякой "правденке" и "псевдосовременности" – это худший вид наигрыша», как считал И. Тарханов.
Р. Плятт отмечал, что речь «лишается живописных интонаций, свойственных старому театру».
Ю. Завадский говорил о «недоходчивости» спектакля до зрителей.
Μ. Кнебель – о недостатке существенности и перспективности мысли.
Г. Товстоногов – о противоречии мощной правды сценической жизни и бедности, неадекватности сценического слова.
Е. Лазарев – о недостаточной органике сценического слова.
М. Глузский – о «несовременности старомосковских произносительных норм».
Интересно мнение А. Эфроса: «Обычная речь на сцене звучит как бы отдельно от чувства и действия».
И в близкие нам времена М. Голуб, В. Алентова, В. Езепов, С. Крючкова, К. Хабенский, Μ. Матвеев говорят о «невнятности» сегодняшней речи на сцене.
В новое время – к сожалению, как считает Д. Юрская, – «речь у актеров стала неграмотной, простонародной, неразборчивой». К. Райкин полагает, что речь на современной сцене стала недостаточно выразительной, Серебренников называет ее тусклой, М. Ефремов – небрежной и рваной. С. Угрюмов задает вопрос: «Как найти компромисс между архаичностью речи в классике и примитивностью современной речи?»
Широко распространенное «неуважение к слову» прежде всего отмечает Н. Михалков; очень низка и все больше падает «общая культура речи», считают С. Голомазов и А. Леонтьев. Говорят мастера и о тяготении общества к речи примитивной, сухой и невыразительной. О том, что актеры разлюбили слово, о вымирании выразительности речи на сцене и, наконец, о слабой речевой технике артистов… Напоминают и о том, что в театре не так уж часто возникает радость от глубины и подлинности актерского переживания.
И, конечно, для всех очевиден разрыв между обыденной речью, которая не требует специфической звучности и высокой разборчивости, и особой техникой произношения и звучания, необходимой в театре.
Может быть, в этой связи М. Глузский настаивает: «Сценическая речь должна быть понятна и слышна для слушателя»; Е. Евстигнеев считает, что рецепт известен: «надо заниматься техникой речи»; Н. Кузьмин утверждает, что «сценическая речь как основной элемент актерского мастерства должна главенствовать в учебном процессе до последнего курса включительно». Однако это далеко не общее мнение: все чаще режиссеры и актеры полагаются на микрофон.
Где же источники речевых проблем театра? Об этом говорят артисты.
Е. Евстигнеев говорил об изменении взгляда на жизнь.
Μ. Ефремов – о подмене понятий и о внешней пустой подражательности, о моде на плохую речь. Он считает, что текст, слово – современны, а речь не должна быть подражательной, отрывистой, клиповой.
В. Марков, актер МХАТ и блестящий театральный педагог, предупреждает, что речь на сцене надо выстраивать «от задачи, а не от окраски».
Говорят многие и о том, что сегодня режиссер «задает» актеру речь на сцене, но, к сожалению, как правило, мало занимается проблемами и способами решения этой задачи.
А. Леонтьев считает болезнями нашего времени дилетантизм, подражательность, «сниженность» притязаний, неразборчивость и, наконец, бессодержательность речи, которая выдается за новую правду, за новую искренность. А на деле сразу становятся очевидными ущербность внутренней жизни слова, скудость воображения. Обратим внимание и на то, что актер и педагог А. Леонтьев обвиняет школу, плохой уровень подготовки артистов.
И это лишь внешний срез проблемы.
Все или почти все говорят о том, что достоинства современной речи на сцене мгновенно становятся новым штампом, как только снижается уровень актерского мастерства. Внешняя подражательность, банальная похожесть на живое слово неизбежно уничтожают на сцене все живое.
И тут с необходимостью возникает еще одна тема.
Как при этом сохранить актерскую индивидуальность?
Мастера подробно отвечают на этот вопрос, и ответы их – разные и подчас неожиданные.
«Природные данные» – считают Р. Плятт, М. Голуб, С. Угрюмов, Ч. Хаматова; А. Попов, Е. Каменькович, К. Богомолов.
Д. Брусникин, Μ. Брусникина, А. Мягков, А. Вознесенская добавляют: «…и осознанные сценические задачи».
А. Эфрос – «ясность, для чего эта речь существует».
Е. Миронов считает самым необходимым для высокого качества речи глубокий разбор текста роли, «открытия, сделанные в биографии героя».
Е. Евстигнеев – «действие и творчество».
М. Кнебель – «мысль».
В. Невинный, К. Райкин говорят о «правильном действии».
«Точное действие рождает живую и точную речь», – отвечает на вопрос Μ. Ефремов.
О. Ефремов всегда говорил на репетиции: не слышно или непонятно – значит, актер не действует. А. Калягин рассказывал, как на одной из репетиций, когда его совсем не было слышно, О. Ефремов заметил: «Значит, не действуешь».
Наверное, об этом же говорил Г. Товстоногов: «Мне не нужен педагог по речи в театре. Я работаю со словом сам».
О действенных сценических задачах говорят мастера театра разного времени: С. Чонишвили, С. Угрюмов, А. Мягков, Д. Брусникин, Е. Каменькович, К. Хабенский, С. Крючкова. Но к безусловной роли «действия» для хорошей речи А. Калягин добавляет «магию таланта».
Разборчивость, четкость, звучность появляются, когда актер подлинно «действует словом», пропускает умение говорить через сценическое поведение и осмысленные задачи. «Слышит» партнера и «видит» смыслы взаимодействия. Не слышно – значит, актер не работает с партнерами; речь его неразборчива – значит, не точны задачи и намерения, нет чувства сценического пространства; плохо звучит – значит, несвободна внутренняя жизнь, не найден способ существования в роли.
Итак, большинство актеров и особенно режиссеров видят путь к хорошей речи прежде всего через конкретное осмысленное поведение, точность намерений и уверенность в праве на высказывание. Разве не эти же позиции важны для каждого из нас? Каждый человек по-своему талантлив и может научиться хорошей речи через творчество и огромную работу над собой.
Так что же это – образцовая речь для актеров и режиссеров?
Понятие «образцовая речь актеров» выходит далеко за пределы произносительной нормы. В анкетах еще почти полвека назад деятели театра отмечали, что «индивидуальная» речь, адекватная и актерской личности, и персонажу, выражающая и характер, и смысловое содержание роли, и есть речь образцовая.
Мастера называют легендарных актеров прошлого, владевших искусством яркой, выразительной живой речи.
Дарья Юрская вспоминает прекрасную речь и голос Качалова – героя огромной театральной эпохи, подлинного властителя дум, с его красотой речи «на грани пения», как выразился когда-то М. Глузский.
Для М. Матвеева образцом представляется прекраснейшая речь Д. Журавлёва – образная, уникально искренняя, в которой живут и авторы с их неповторимой стилистикой, и персонажи.
Е. Миронов вспоминает И. Москвина и отмечает в анкете мастерски владеющих словом артистов новых поколений.
В. Невинный утверждал, что сильный актер не может себе позволить плохо говорить на сцене хотя бы потому, что речь – внутреннее достоинство актера.
Точно отметил А. Калягин: для хорошей речи необходим актерский талант, диапазон играемых характеров и общая культура.
Н. Чиндяйкин сегодня напоминает о том, как важен «вкус к слову», к живой речи, к поэзии, к голосу как к человеческому дару.
Размышляя об образцах, Д. Крымов называет Н. Волкова и Г. Буркова – оба артиста идеально воплощали сущность сценического характера. Напоминает Д. Крымов и о Михаиле Чехове, голос и речь которого не вписывались в речевой стандарт.
Я бы назвала прекрасной и речь замечательных артистов Е. Евстигнеева, В. Высоцкого. Все они мастера живого слова, актеры особых дарований, искренности и силы. И все они свои речевые особенности превратили в достоинства, нашли им мощное художественное оправдание.
Мастера описывают выдающихся актеров, блестяще владеющих искусством речи. Замечательно сказал о них В. Невинный: «Это неизменно будут сильные актеры, очень яркие индивидуальности, сами себе не позволяющие плохо что-либо сказать».
А вот мнение А. Калягина: у них диапазон характеров и культура.
Е. Миронов считает, что речь прекрасная у актеров, ставших «знаковыми для своего времени», потому что главное в речи – личность.
В их числе и великие артисты, еще блиставшие на сцене в 1930–1950-е годы, такие как И. Тарханов, А. Остужев, В. Топорков, и актеры позднего времени: Е. Копелян, Л. Борисов, О. Ефремов, А. Демидова. Артисты, которых мы и сейчас можем увидеть и услышать в эфире, и все они – яркие индивидуальности, и так же уникален их речевой стиль, вписанный во время творчества, соотнесенный с ним. Е. Миронов, С. Безруков, С. Угрюмов…
Проблема речи на сцене – это прежде всего проблема смены времен и наступающее время другого театра. В. Немирович-Данченко подчеркивал эту генеральную связь.
Время перемен наступало и после Великой Отечественной войны.
Стремительно менялась жизнь. Все мы жили ожиданиями… Мир получил трагический опыт, преодолел фашизм, поверил в то, что за правду надо бороться. Пришло в искусство поколение, пережившее войну. Другими голосами наполнились улицы, дворы, наша жизнь. Послевоенный мир стал другим, и художественный мир заговорил о другой правде и по-другому.
Но в глубинах театра ютилась ложь. Вспомним хотя бы насаждавшуюся сверху бесконфликтность, борьбу «лучшего с хорошим», деление мира на идейных праведников и безыдейных виноватых, вспомним, наконец, Сурова и Софронова, многих-многих… Слово было проводником этого пропагандистского искусства. И даже реплики великих пьес отзывались декламацией.
Однако театр по-прежнему был театром классической речевой нормы, «властители дум» изначально владели слышной, разборчивой речью. Звучный голос и московское произношение – это была производственная необходимость.
Но какими содержательными становились слова в устах больших артистов, какими убедительными, волнующими были их появление на сцене, их искусство, сама их речь…
Назовем здесь одного замечательного артиста, речь которого в последние годы его творчества казалась вершиной речевого искусства уходящего времени.
М. Царев поражал зрителей настоящей мужской красотой и какой-то романтической искренностью. Ведущий актер и директор Малого театра, в Щепкинском училище он преподавал «художественное слово». Студенты и не подозревали, что он мейерхольдовец и за ним стоит его необыкновенный актерский опыт. Шел 1949 год, и говорить о Мейерхольде и репрессиях было нельзя. Мастера молчали. Даже для того, чтобы не «приветствовать» и не «поддерживать», было необходимо огромное мужество.
Михаил Иванович сыграл у В. Мейерхольда свои коронные роли: Чацкого в «Горе от ума» и Армана Дюваля в «Даме с камелиями».
Самой лучшей его работой стал Чацкий в постановке «Горя от ума» Грибоедова. Эту роль он играл еще у Мейерхольда, а затем и на сцене Малого театра в течение многих лет. Специалисты отмечали, что лучшего исполнителя Чацкого в советском театре не существовало. С возрастом (в 1960-е годы) Михаил Царев перешел в спектакле «Горе от ума» на другую роль – Фамусова, которую исполнял столь же замечательно. Очевиден его актерский диапазон. Вожак в «Оптимистической трагедии» Вишневского, Старик в одноименной пьесе Максима Горького, Маттиас Клаузен из «Перед заходом солнца» Гауптмана, Хиггинс – «Пигмалион» Бернарда Шоу, Глумов в «На всякого мудреца довольно простоты» Островского и уж совсем неожиданно – Рюи Блаз в Малом театре и доктор Ливси в фильме «Остров сокровищ».
М. Царев казался артистом-романтиком, героем, но и в ролях, и в его чтении стихов была огромная суровая простота и точность. В потоке эмоционально сдержанной речи звучали особенные, «звучащие» длинные ударные гласные, рожденные скрытыми душевными переживаниями… Это не было декламацией, но, скорее, точным прочтением автора. Этой особенностью актерского существования, отраженной в слове, владели все – в остальном очень разные – большие актеры той эпохи. Послушаем вновь старые записи Ермолова, Качалова, Астангова, Царева, Топоркова… Да и гораздо позже, конечно, по-иному, с иным содержанием, – Смоктуновского и Ефремова.
М. Царев знал какой-то свой, никому не ведомый способ преподавания, как бы вел за собой, и результаты получались всегда успешные – это было самое настоящее художественное слово, искреннее, темпераментное, выразительное. Может быть, секрет заключался в силе его личности, обаянии и таланте. А его отношение к искусству артистического слова в плане обучения и осмысления выразилось в том, что художественное слово и мастерство актера на его курсе преподавала М. Кнебель.