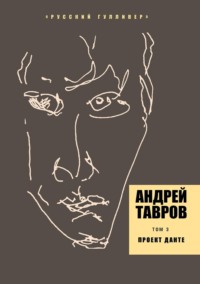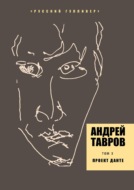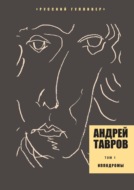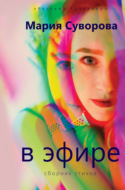Buch lesen: "Том 3. Проект Данте"
© Русский Гулливер, издание, 2025
© Центр современной литературы, 2025
© Валерия Исмиева, предисловие, 2025
В диалоге с вневременным: о «Проекте Данте» Андрея Таврова
11 лет назад в издательстве «Русский Гулливер» была опублкована книга, которая ныне составила 3 том собрания сочинений Андрея Таврова: «Проект Данте». Как её охарактерзовать? Перед нами – трансмиф и живой энергийный космос, вобравший в себя колоссальный объём культурных контекстов. Но прежде всего книга Таврова – диалог с автором бессмертной «Комедии» и её текстом (в посвящении был заявлен ещё один прямой адресат диалога – Алексей Парщиков, друг Андрея). Знаково, что из трёх частей «Комедии» поэт выбрал в качестве явной шкалы координат только «Рай»: перед нами стремительно разворачивается мерцающее огненными капиллярами полотно жизни, вырвавшейся из статики ада и в каждой точке времени и пространства вновь и вновь преодолевающей смерть на пути вертикального гнозиса, устремленного к Божественному Первоисточнику. Поэтический текст, как кристалл, вырастает в правильный многогранникголограмму, где каждая синтагма – линза, отражающая через единичное общий эйдетический принцип.
Примечательно, что, хотя разговоры об этом велись, жанр «Проекта Данте» критики затруднились обозначить; одну из важнейших причин тому назвал поэт и философ Владимир Аристов: «Андрей Тавров вырывается за пределы известных стихотворных форм». С этим трудно не согласиться. Андрей Северский высказал своё суждение в статье со знаковой цитатой из текста в заглавии «О стихотворениях Андрея Таврова. Алтарь ни на чём», называя «Проект Данте» поэмой.
Между тем слово «проект», выбранное самим автором, на мой взгляд как нельзя лучше соотносит нас с сутью, поскольку, говоря сухим языком определений, обозначает «специально оформленную детальную разработку определённой проблемы», допускающую «максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов» (взято из ВиКи). Задача определения жанра приводит нас к сополаганию с такими эпическими произведениями, как «Комедия» Данте, Гомеровская «Одиссея», «Роман о Розе», «Кантос» Э. Паунда, «Улисс» Д. Джойса, «Роза мира» Д. Андреева, «Симфонии» А. Белого. Целить в такой ряд ныне, в XXI веке, разумеется, безумие и заведомый проигрыш, если мы подразумеваем под обратным наличие многотысячной аудитории вдумчивых читателей и широкого сетевого пиара. Но культура, язык, ноосфера без таких книг мелеют и теряют связь с онтологической вертикалью, и цена этой утраты – превращение мыслящих и чувствующих субъектов в толпу желающих машин, в чём мы имеем возможность убеждаться вновь и вновь.
В книге семь глав, и все структурированы в соответствие с третьей завершающей частью «Божественной комедии», представляющей поэтапное восхождение к Эмпирею и Перводвигателю через сферы семи планет, которые олицетворяют определённые качества и интенции познания, а также через Небо звёзд. Каждая из девяти подглавок семи частей разделена на три. Пифагорейская метафизика числовой структуры (7, 9, 3) красива, содержит богатые возможности для интерпретаций (на которых мы не станем останавливаться ввиду доступности информации, посвященной числовой семантике), и соотносится с христианской онтологией, в первооснове которой – динамичный космос Платона (диалоги «Тимей», «Пир», «Республика») и гносеология, устремленная к высшей точке любви, «что движет солнце и светила» (финальные слова «Комедии» Данте) – ср. с «что сказать о тебе любовь моя? между собой и собой ты держишь мир как он тебя между небом и небом» («Бабочка» (символ души), заключительный катрен «Проекта Данте»). Стремительные до головокружения смещения и трансформации поэтической оптики Таврова, таким образом, соединяют в гармонически звучащий космос Пифагора всё когда-либо дышавшее жизнью и жаждавшее восхождения к творящему Высшему началу.
В этом отношении можно выстроить длинную цепочку дискурса, включающую в космос Таврова помимо Платона и досократиков христианских и суфийских мистиков, А. Бергсона, Я. Бёме, В. Соловьёва, систему Каббалы, даосизм, дзен-буддизм и т. д., но сама его поэзия не дискурсивна. Напротив, вспышками метаметафор она проявляет мгновенное «схватывание» смысла, как это происходило у Парменида и у Платона на эйдетическом уровне, или у Бергсона в скачках сознания и «сиянии» «порыва». Перефразируя Агамбена применительно к поэзии Таврова можно было бы сказать, что лишь поэт, ставящий перед собой философские задачи, настоящий поэт, но это не означает, что поэтическое письмо должно быть философствующим, о нет, скорее, оно будет исподволь проявлять ноэтическое ядро, экзистенцию, атман – подобно тому, как у Агамбена «философское письмо должно содержать следы растворяющегося поэтического письма».
Строгая структурная огранка текста Таврова в то же время и нервные волокна, и вены Космоса, их пульсация отзывается в сбивании ритма, в трансформациях визуального и самой оптики, то уподобленной вогнутой, то выгнутой линзе, растягивающейся как линия морского горизонта и в следующий миг сжимающейся до капли, в подвижной системе зеркал и в неоднородной структуре времени (к этому мы вернёмся позже). Сквозь эту «решётку» свободно перетекают потоки поэтической речи («Воздух скважист и сетчат, сотообразен, как реактивная установка, заряжен вариантами, как пчелами череп»), разбегаясь и собираясь в единый факел Огня-Логоса. Значимость этого античного понятия и символа, восходящего к Гераклиту, для Таврова онтологична. Знаково, что в «Шестистишиях» и других стихах книги «Плач по Блейку» (2021) Андрей графически визуализирует Огонь-Логос, не только инициирующий в мире становления непрерывные трансформации, но и одухотворяющий материю, «восходящим» письмом, располагая строки снизу вверх, а не привычным – сверху вниз. «Кристаллическая» огранка композиции «Проекта Данте» усиливает натяжение струн Гераклитовой лиры, превращая её в тетиву лука, и эта тетива вибрирует в каждом существе, будь то улитка или Ахилл (тщетно соревновавшийся с ней в беге у Зенона), «восставленная тёлка Дедала с голой царицей внутри», моллюск, мистический конь Упанишад, Серафим Саровский, Орфей, Кьеркегор, Гёльдерлин, дельфин, Данте и Беатриче… Так же и воспламенение жаждой ноэтического может произойти в любой точке пространства – в метро, в Аиде, в супермаркете, в линзе росы, в Небе Звёзд, «в воздуха размазне»… В этом воспламенении, как в молитве Паламы, переходящей в сияние, достигается самозабвенье, и обретается (на миг? на вечность?) опыт слияния с Божественным бесконечным.
Конечно, соблазнительно предположить, что в неограниченном поле лилы неостановимых метаморфоз Тавров целиком полагается на волю случайного и даже абсурдного. Однако это не так; хотя, наверное, ни один аналитик не решится на работу по «раскодированию» каждой метафоры автора «Проекта Данте», поскольку исследование творческой лаборатории с такой сверхплотностью письма – задача непомерная, да и само по себе стремление «расколдовать» метафоры и символы – разрушительно для души, о чём предупреждал ещё К. Юнг. Отметим лишь, что силовое поле «Проекта Данте» – антитеза абсурду, но требуется терпение и со-настройка с ноэзсом автора, «схватыванием» непостижимого через парадоксы и апории, выводящие его в сферу ведомого.
Не останавливаясь на отдельных метафорах Таврова, отметим, что заимствованный у Данте принцип построения «Рая» не формален и подкреплён внутренним смыслом: каждая новая небесная сфера – это новый горизонт, одновременно обладающий потенцией раскрыть определенные свойства восходящего и в то же время являющий «универсальное поле всякой действительной и возможной практики» по Гуссерлю; в процессе непрерывного движения за пределы видимого происходит пересборка сознания, неизбежная в восхождении от души индивидуальной – к мировой, через преодоление тесных оболочек эго.
Вот, например, некоторые вехи странствия героя в «Ахилле и Галатее»: в сфере «Земля» «Смерть и жизнь совпадают над льющейся мельницей», то есть Ахилл пребывает ещё в состоянии неразличения и удалён от первоисточника смысла; в сфере Луны, планеты астральной двойственности, совершается «усилье быть Другим» через попытку постижения этого Другого или Другой, женщины: «вспомни чернильницу 57-го – вагину Мальштрема, превратившую жизнь в изнанку»; следующий шаг или бросок туда, «где богов и звезд и музыки напор вдруг сдерживается и достигает напряженья» и, «образуя имена, царит Меркурий», планета прояснённого сознания, открывающего сознанью новые связи; сфера Венеры даёт тонкое переживание красоты, окрашенной в любовные тона любования: «И я увидел девочку в цветах, и в ней – себя. Виденье расчленилось на всё, что мир узнал о красоте. Но я вобрал лишь то, что мне открылось. И мы взлетели к огненной Звезде», т. е. Солнцу, где «вместо паспорта на груди находишь иллюминатор», иными словами, видимым становится то, что с твоей личностью не связано, и визуализируется Хайдеггеровское «человек – просвет бытия», когда сам ты, «сгусток слизи и мысли – внутри собственного скелета, разошедшегося по швам во все стороны света». Отсюда Гомер направляет Ахилла в сферу Марса, являющего через призму войны, что «между раной и звездой – длина меча в руке»… И так вплоть до Эмпирея, где помудревший Ахилл отождествляется с арканом таро «Дурак», символизирующим начальное неведение героя, детскую открытость и отказ от каких-либо предварительных установок ради непосредственного переживания, а – в контексте книги – нулевую степень письма.
Стремлением к последней объяснима всё менее поддающаяся логике вязь метафор по мере продвижения к высшей точке каждой из семи частейтроп, зависающих в ноэтическом пространстве, как дирижабли в воздухе (тема, онтологически союзная поэтике А. Парщикова). Нулевая степень письма – это высвобождение из оболочек шаблонов и клише, их выворачивание, окончательное вытрясание привычных представлений о вещах; герой выходит в очередной раз за пределы себя, теперь по ту сторону мира, к его изнанке и Перводвигателю: «И путь, что я прошел, меня разжал дугой, и, застонав, словно гимнаст с трамплина, воронкой нижней я взошел к другой – небесной».
Метаморфозы видимых форм переходят в новое качество: на месте «я» обнаруживается пустота, раскрывается возможность бесчисленных путей. Смысл постигается через экстатическое озарение, соединяя душу с предметом любви и трансформируя одно в другое: «Влетев вместе с бабочкой в зеркало, откуда – мир, я становлюсь бабочкой, она – Ахиллом». Приобщённый к такой возможности более не нуждается в привычных словах, на этом уровне, согласно Данте, ангелы общаются друг с другом безмолвно и посредством «светозарнейшего зеркала», им уже не нужны никакие знаки речи. Отсюда смолкание созерцающего: «Шел лось. И на рогах держал Луну. Не знаю как. И непроизносимо»; «И в тишине ты увидишь идущего как матрешку, где мельчайшее отзывается вовне величайшим объемом, который Данте называл Перводвигателем, и остальные последовательно – от Эмпирея и до Земли – те внутренние фигуры резные, что возрастая собой – уменьшаются сферами…»
Постигая пространство «Проекта Данте», мы подходим к вопросу о свойствах времени в тексте, где встречаются и соседствуют разнопространственные и разновременные герои и события. По меньшей мере, временных потоков два, и оба движутся навстречу друг другу: вектор привычного нам, неоднородного, индивидуального направлен из прошлого в будущее, другой, напротив, из будущего вытекает, как в «Сне Меланпа» Вячеслава Иванова (на который в «Ахилле и Галатее» есть непрямая отсылка), в настоящее. В этом движении сходятся концы и начала вещей, лирический «тысячеликий герой» встречается с собой будущим и прошлым, с гениями и святыми из иных времён и в иных обличьях: «Когда виском стоял я у Венца, тогда? сейчас? – я был завит в одно, в конце сверла раскрытое окно, в спиралях восходил я в Эмпирей, и там как продолжение лица увидел я синиц и снегирей – Франциска, Александра и Луку, и вновь Терезу, Павла, Серафима». Пространственно-временные пласты накладываются и вкладываются друг в друга, как прозрачные стёкла с нанесённом на них узором: «Дева Мария поет в спинной и грудной створках, разойдясь – на двух, плывущих в ракушках. Каток Орды на площади Кракова дымится асфальтом… Он раздвигает глубоководную Русь в золотом сеченье – человеком, упершимся в круг изнутри». «Витрувианский человек» вмещает в себя вселенную, оба кратны друг другу.
На острие безмолвного акме, где Божественный Источник мира раскрывается в человеке как бесконечная потенциальность, не только наступает тишина – останавливается течение времени. Поток, текущий из прошлого в будущее, и истекающий из будущего в настоящее замирают в точке встречи и выхода в безвременное, но осуществление этого требует волевого усилия и личного выбора: «Вынуть из смерти – не эволюция, тут беспощадный взор надобен, превосходящий угол и круг, дом и «любовь», сегодня и завтра. Надобен играющий небом взор, откуда само оно вышло с птицей, в которой оно играет».
Переживающий бесконечные трансформации становления, исполненный радости восхождения, материальный и одновременно парящий в невесомости космос Андрея Таврова удерживается от распада этикой и любовью, созидающими и сохраняющими прекрасное и живое. Так эпическое в «Проекте Данте» сопрягается с интимным лирическим дыханием. Текст, содержащий столь много отсылок к знаменательным произведениям искусства, этим своим свойством более всего напоминает мне православную икону «О тебе радуется» с её одновременно ликующими и ласкающими интонациями. Подобно ей, метаметафорический поэтический текст Андрея с его обратной перспективой стремится обнять своего читателя, вовлекая в мир, где алчущий света истины и нуждающийся в дружеском участии найдёт ориентиры для своего восхождения.
Валерия Исмиева
Книга первая
Ахилл и Галатея1
Земля2
1
Ахилл танцует на побережье. Море – сгусток синевы.
Дельфин на носу выносит на мыс медузу,
она вбирает линзой солнце и растекается среди травы
сияющим глазом Патрокла, упавшим в зеленую лузу
огня, не утратив диска внутри. Ахилл один пляшет на побережье.
Глянь в него сверху – увидишь мишень годовых колец,
их-то и видит ястреб, высматривающий из-под солнца
отражение лебедя в кольце свитых в зрачке небес —
сонмы ахиллов, внутренний лес, вложенный в срез
древа жизни, щита, отразившего небо на бронзу.
– В лесу себя блуждая, я танцую
на побережье и подбрасываю в ветер обрывки водорослей и щепу.
Я – лес, я – созвездие, я – вложенная в проколотую мочку птица,
я, как медведь, сияю и живу.
Пята моя – компьютерная мышь, и я подбрасываю жесты, как щепу.
Так провалиться в плоть и плеск океаниды3,
что ускользающая пятка выйдет из плывущей, как мышь
иль девочкина грудь.
У моря больше нет Фетиды, нет волны в глазах.
Внутри меня шумит мой полый лес – взглянуть,
как я стрелой незрячей выступаю сам из раненой пяты.
За окнами кафе течет река
автомобилей. Время года – с де́вичьим лицом
и крыльями орла4. Я вглядываюсь в улицу,
где ты идешь, собой обведена, – река
вокруг себя самой как внутреннего острова, что замер,
не став еще ни геммой, ни из хрусталя яйцом.
Закат с полей пришел на дно ручья,
где золотой и темный бархат стал глазами,
и ты течешь, морским увидена коньком.
Внутри меня бутыль, в ней яхта с парусами
топорщится, как свастика и краб —
внутри него защелкнута психея,
лимонница, крапивница, душа,
павлиноглазка Артемида, клад
и облачко из пудры мраморной – над речкой галатея.
2
За пядью пядь по сорванному, как замок с ворот, миру.
Тут роза росла, словно раскрытый зонт на полпути
превращенья из омута львиной гривы в колкую лиру.
В глазницах моих черепаха золотую кусает гривну,
ее панцирь задраен богами, чтоб волне не войти.
Они шли и уносили имена. Из имен
выступали – как груша из дерева, лестница из цеппелина,
лица из карусели, влетевшие яблоком в объектив.
Я сжег эти шкурки цикад, обрывки их речи в очаге из треснувшей глины,
мешая угли клинком, ухватив губами мотив.
Четыре стихии мира лежат на ладони, как яблоко.
Четыре зонта раскрываются изнутри, протыкая кожицу зубами
волчицы, языками огня, пением ангелов, жжением ялика.
Хрустальным шаром лежат – местом, где был ты только что с нами,
Тиресий, в тот самый миг, когда расплющился в бешеном «мерседесе».
К правой руке привязан абрис на ленте,
будто бы дирижабль маячит без имени и лица,
очертанья меняя, как нитка, сползающая вниз по Лете.
В лесу он ко мне подошел, бык с крыльями. На рассвете
мы взлетели, и он менялся, как в водопаде жесты пловца.
Я, Ахилл, расширялся, один из меня
был мальчиком, мячиком на коленях рабыни,
другой танцевал на спине обернувшего мрак коня,
и третий над речкой нес на бедре мобильник —
все, что осталось от встречной берцовой, когда далеко5.
Так с именами. Над ручьем, полным глаз,
слышишь писк с того края света, ощущаешь, как речь, молоко
на губах, как резь от ниток с невидимого дирижабля,
вспоминаешь взглядом скулу с золотым завитком, и капля
срывается вниз – ее ловит цапля: одноногий гений забвения, зонт.
На жертвеннике перед сфинксом я множусь руками, как языки
огня. Он смотрит, прорытый землей в воздухе, на меня.
Он говорит: жди ангела, трепещущего, как саранча
в волосах, прижатых щекой к отраженью реки.
Пророй его, как меня, руками – они глубоки.
3
Вода замирает в глазах у кота и в ноздре у рыбы.
Смерть ее – в невесомости бритва: памятник отшатнувшемуся
от себя дельфину.
Огонь замирает – гимнастом, нарвавшимся на канате на рифы
несбалансированности, разбросав языки жестов, как плоский костер.
Земля умирает – как вырвут имя из-под языка и вгонят «перо» в спину.
Воздух замирает со словом «прощай простор»,
смерть его четырехкрыла, как стрекоза,
и горизонт виден через длину катушки,
в которой схоронен эльф, замотанный, как оса,
длиной дыханий от Альп до закушенной в стон подушки.
Да не будет! Бычась, стоит херувим,
проросший крыльями, словно барак пожаром,
лицо – как у девы в алькове, в полтела – нимб,
балансируя между телом и шаром,
проявляя одно, чтобы сразу сменить другим.
– «Ты готов к восхождению, волк?» – «Я Ахилл, я волк».
– «Для чего тебе это, знаешь?» – «Знаю. Да, знаю. —
С той стороны позвали выдох и шелк:
флейта и пламя. И я врубился в лес топором, я втянулся в стаю
мертвых, идущих за словом по небесам небес,
мертвых, заглядывающих в мертвые лица».
Афина стояла передо мной, как утренний лес,
в косых лучах и бабочках6. Вереница
пчел сшивала между висков два мира,
и Улисс выступал спиной из груди, как вжатая внутрь лира.
С моста через устье реки видишь вечерний пляж:
водный велосипед – мельницу, льющую раскаленную воду,
нестерпимую воду, сияющую на солнце.
Две фигуры на нем (одна – наклонившись) застыли, врезаясь
в зазор, тоньше, чем смерть, – в свободу.
Смерть и жизнь совпадают над льющейся мельницей,
над вечереющим пляжем.
Двое не шелохнутся. Под музыку с набережной сияющая круговерть
делает свое дело. Смещаются в море
фигуры вне времени – часть недорисованного экипажа.
Афина и я качаются на волне, растворяясь как соль в просторе.
Луна
1
Луна началась в горле и разрослась в кадыке,
как раковина, что тянется подглядеть звезду за спиной,
заглотав с каждым кругом все больше в море или в реке,
сама становясь лучами или звездой.
Луна разрасталась воздушной верстой, проступив
сквозь меня и богиню: она была нами, мы – ей.
По Луне идет слон7. Акустика совершенна. Я слышу мотив,
летящий от фортепьяно, колеблемого на спине, —
что-то вроде «Yesterday» одним пальцем. Шел снег —
теплый и красный, как щека Брисеиды в огне.
Я понял, почему тогда жрал песок побережья.
Слон балансирует девой, воздев разведенность на хобот.
Как матрицу, содержит их любой пейзаж.
Все море – след кристалла, кубика и алтаря.
Спираль творенья розова от марганца,
от крови агнца. Слон – приводной алтарь,
передающий тысячам ремней, похожий на ромашку,
усилье быть Другим8. Влекущий миллиард монад,
как Гулливер, влекущий встарь флот субмарин,
и в каждый аппарат вошел Ахилл – оплакать друга.
И потому другой неотвратим,
как океан в крови из-за кристалла.
Я плачу по рабыне9день и ночь,
ее лицо мое лицо узнало,
и меж зеркал парит мир – целлулоид без грамматического управления.
С Луны сильней сияют звезды, с девой слон впечатан,
как матрица, рисунком световым
в любую клетку, даже с рысью в мелкий атом,
несомый отраженьем световым,
и не сводимый с лона речки, как наколка.
Я стою над рекой и вглядываюсь в выпуклую гемму,
в не сошедшее со вчера с теченья пульсирующее лицо красавицы,
перемени направляющие – и исчезнет, как яхта со стапеля. Какому крену
русла твое бытие обязано, какому клену?
Загляни за плечо – станешь ракушкой, звездой.
2
Одиночество, кратное целому лесу красных ахиллов,
уходит так же просто, как из бара подруга,
завернувшись в простыню твоего взгляда, но потом отринув,
и теперь ты разглядываешь, как это выглядело изнутри,
и видишь – упруго.
Отсутствие стоит, как белая взрезанная мумия.
Одиночество уходит, когда тебя держит за кисть богиня.
Умирая заживо, человек превращается в волка,
вгрызающегося в себя самого мелко и долго
черной воронкой, вспомни чернильницу 57-го – вагину
Мальштрема, превратившую жизнь в изнанку.
Женщина ли изнанка мужчины, но,
заглядывая за ее затылок, он
выравнивает не кого, а статус кво, как дно,
вставшее вертикально со всем, что на нем,
образуя нишу творения: Акциум,
провалившийся, как чулок, отвесным огнем.
Афина говорит: «Смотри, смотри!» —
и лес ахиллов втянут перспективой.
Я вижу дворик, озаренный Девой10,
и форма дома и дверей изогнута —
протаяло пространство от Нее, как от руки,
приложенной зимой к трамвайному окну.
Ее тепло распространяет форму
намного дальше, чем Она сама.
Все остальное – белый Гавриил,
объявший мир, ее одну
не заполняя крыльями, а значит,
он – отпечаток этой Девы. Как рука
печатает себя на белом и надышанном стекле —
вот так и он протаял до Марии
тем очертаньем, что совпало с вестью,
способной повторить Ее черты.
Афине говорит Ахилл: «В честь имени Архангела11
та, названная, что ушла из круга
земного, – где она?» – «Зародышем и буквою для слуха
был первый слог Ахилла бытия:
она здесь – эмбрион, что в мозг упал и выплеснулся формой уха».
З
«Дальше путь через сад», – говорит Афина и исчезает.
Я ловлю воздух, словно леплю в нем снежки —
ладоней сдвоенные отпечатки повисают над землей.
Воздух-Геркуланум запечатывает хлопки —
они жужжат пчелиным мотором, но уже не взлетают.
Я знаю, умерла Троя, хоть пожар стоит до сих пор.
И легиону пчел его не продвинуть в пространстве!
Умерли все – я смотрю на них изнутри лупы – размыт мой пол:
я смотрю, как куклы штурмуют стены и тщатся
казаться живыми, а может быть, им все равно.
Воздух скважист и сетчат, сотообразен, как реактивная установка,
заряжен вариантами, как пчелами череп. Но
сразу двум – не бывать: не бывать близнецам судьбы.
Поэтому, когда стена террасы раскалена солнцем,
и за танцем лимонницы, спарывающей с солнца кожуру,
ты едва различаешь корму лайнера в море
близ города S сквозь жару,
а плющ оплетает с вылетающим тюлем оконце,
и в комнате запах духов и воздушная башня разгрома,
а воздух захватан настолько, что его галатея
сейчас оживет, проявившись, – вот тут-то с бабочкой и уходите из дома.
Бабочка-поводырь введет тебя в сад, где играют дети12,
взявшись за руки, глядя в глаза друг дружке и никому на свете.
Этот сад никогда не выцветет. Эти плети плюща
устремляются к солнцу, как ящерица, выбегая изо рта другой,
т. е. не отрицая то, чем была. Я тоже хотел бы так.
Я хотел бы петь и дышать, и расположиться в пространстве,
не восходя к истине по Сионской горе своих же собственных трупов,
но слушая соловья над лиловой рекой, где дети играют взахлеб
под Солнцем, хранящим меня, ставшего лесом и садом, и чтоб
каждая веточка моего жеста, расплющенная звезда поцелуя
на углу площади Восстания в синих сумерках августа, —
стояли отдельно, как выстрел, взятый вживую
утиным телом, или багульник. Утки не умирают.
Я смотрю на Солнце. Бабочки совпадают
с женским телом в ходе беспредметного ракурса.