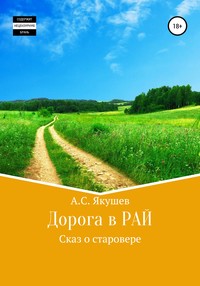Buch lesen: "Дорога в РАЙ"
Сказ о старовере.
Посвящаю жене Людмиле Николаевне.
Обезножен. В коляске сижу.
И всякий час надежду жду
В твоих страдающих глазах.
Но милое лицо твое в слезах.
Глава первая.
О С К О Л К И
Сколько их было. И не удивительно. Бывшему капитану дальнего плаванья Николаю Фотийвичу Долганову стукнуло 80 лет. Осколков этих у него навалом. И от детства, и от зрелости, и так до старости. Каждый в памяти как в зеркале. Не тускнеют. Раньше вроде не смотрел. Не было надобности что ли. А сейчас тянет. Наверное, от нечего делать. А больше от того, что такая жизнь настала – в страшном сне не придумаешь. Развал. Опять занавес. Только теперь додумались закрыть плотной завесой все то, что было достигнуто. Мавзолей Ленина и тот закрыли картоном. Флаг Победы заменили. Как будто его и не было. Все убирают, что напоминает подвиги прошлого. 70 лет выкинуты из моей жизни. Недоумевал Николай Фотийвич, прижимая руку к сердцу и стараясь понять настоящее душою, которая его не принимала. Может что-то делали не так, шли не туда куда надо. Но за всех не ответишь. Лишь за себя. Хотя бы по осколкам. Отчитаться перед судьбой, которая тебе выпала. Спасибо памяти. Она на старости обострилась и лгать тебе не будет, если ты честен перед собой. Да и надо, чтобы не опозорить свою старость и оставаться в ней в том осколке, который должен быть отблеском всех остальных для заключительного слова обо мне. Подумал, и заглянул в начальный осколок.
Свою малую родину – староверскую деревушку в таежных дебрях Сихотэ-Алина в стороне от большего поселка леспромхоза, где сосредоточилась власть и была начальная школа, покинул он в 43 году в разгар Великой Отечественной войны, когда ему было 14 лет. За спиной семь классов, страстное желание стать моряком и попасть на фронт. Оно появилось не только от таких книг как: «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», но и от однорукого фронтовика – учителя физкультуры, бывшего торгового моряка, защищавшего Севастополь уже в морской пехоте и потерявшего руку при подрыве гранатой фашистского танка. Одна его тельняшка на распахнутой груди с медалью «За отвагу»– наполняла неискушённую душу подростка восторженной завистью. Не говоря о его рассказах о морских рейсах.
Учитель, по воли судьбы оторвавшей его от моря, угадав своей открытой морской душой все, что зарождалось в мечтах в деревенском пареньке, недолго думая, посоветовал ему от всего сердца:
–Дуй-ка ты, Никанорка, полным ходом во Владивосток. В торговом флоте не хватает настоящих моряком. Многие из нас на фронт ушли и еще не вернулись, а вернулись, так вроде меня. И пароходство набирает мальчишек. Обучают их в море. Рейс, два – и ты моряк. Устроится, я тебе помогу.
А Никонорке то и надо было. Попрощался с мамой. Ее жалко было оставлять. Он у нее был один. Муж, его отец, ушедший на фронт в начале войны, погиб. И он, глотая слезы, пообещал:
– Мамка, я вернусь!
– Вернись, – повторила она, как заклинание, и выпустила его из своих материнских объятий.
На том и расстались.
Но так и застрял этот начальный осколочек жизни в душе. А за ним пошли блики на волнах, как в песне: «Напрасно старушка ждет сына домой/…/ «А волны бегут от винта за кормой и след их вдали пропадает».
А блики были. Сейчас в них мало кто поверит. Впрочем, так было всегда.
Пароход Дальневосточного морского пароходства, на который он был направлен машинным учеником, делал по Ленд-лизу челночные рейсы между материками восточной Азии и северной Америки через бурные широты Тихого океана вдоль Камчатки, где была меньшая вероятность быть торпедированным. В историю Дальневосточного морского пароходства они войдут как Огненные рейсы. И не для красного словца. За годы войны были потеряны пароходством 25 пароходов, идущих в одиночку. Торговые моряки пароходства уходили в рейс, готовые ко всему как фронтовики, идущие в атаку. И частью их были юнги. И он в их числе. Во втором рейсе он уже стоял ходовую вахту. И не только вахту. По боевой тревоге мог мигом быть и в шторм, и в штиль, и в любое время суток у эрликона. А по шлюпочной срывался с койки и мчался к своей приписанной по расписанию спасательной шлюпки. Все могло быть. И было. Тонули юнги вмести со всеми, а было им в среднем по 14 -15 лет. Памятник бы пацанам поставить в торговом порту Владивостока и не в тельняшке да бескозырке, а в джинсовой робе и в задних карманах расклешенных брюк с мореходкой и пачкой сигарет «Кэмел». А какие для ребят в Америке соблазны были. Все магазины переполнены товарами, от которых неискушенные глаза разбегались. И в продуктовых чего только нет. И никаких очередей. Купишь что, тут тебе и «Танькью», да еще и с улыбкой. В каждом подъезде автоматы с мелочёвкой. Сунешь цент, тут тебе и напиток любой, да еще охлаждённый, сладости разные, сигареты. А туалеты какие, ребятам и не снились. Сядешь – и вставать не хочется. Какая война. Их и усыновлять предлагали. Да какое там. Маму забыть. А Родину!? Она в беде, а он будет на чужбине в шикарном гальюне нежится. Предателей среди них не было. Только домой, только к Родине приплыть, доставив груз фронту в полной сохранности и не уйти дно. «За русалкой на мертвое дно» как говаривали просоленные моряки.
Но его Бог миловал. Видно, мама усердно молилась святой Мадонне с младенцем на руках. Деревянная Икона ее, сколько он себя помнил, висела в доме в Красном углу гостиной. Доска потемнела. Пошла трещинами. Но святые лики на ней время хранило. Они были светлыми. И Божия Матерь оставалось в вечной заботе о своем чудо-сыне. И благостное материнское чувство ее сохранить свое чадо передавалось каждой родительницы, которая смотрела на нее с душевной надеждой и верой. Мама была из тех. Она в поклонах своих и молитвах, просила святую Икону оберегать в Океане и ее Никонорку.
Смотрел в следующий осколок и гордился сейчас, но не собой, а всем что происходило в его любимом Владивостоке.
Стоянки во Владивостоке были коротким. Пароход в девять тысяч тонн военного груза на борту разгружали за несколько суток, моряки порой и на берег не успевали сходить. И вся надежда была на скорую победу.
Она пришла. Встретили ее по ту сторону океана. Ликовали всем миром, как кровные братья на планете. С причала неслось: «Рассшин – виктория! Сталин – виктория!» А Николаю скорей бы во Владивосток да маму обнять.
И тут известие, как гром среди ясного неба: в проливе Лаперуза потоплено в полном грузу самое большое судно Дальневосточного пароходства «Трансбалт», идущий уже в открытую со всеми сигнальными огнями из Америки во Владивосток. Утонуло пять членов команды. Среди них его одногодок машинный ученик Алеша Малявин. С ним он попрощался в Сиэтле при отходе. Пароходы стояли у причала корма к корме. Алеша махнул куском масленой ветоши, как гордым атрибутом. Носили ее юнги в заднем кармане рабочих брюк навыпуск, чтоб все видели, что они из машины команда и никакие-то там маслопупы, как их называли палубные ученики, а кочегары да машинисты. А палубу шваброй драить всяк салага сможет.
– Встретимся в Фиалке, – уверено заверил Алеша, улыбаясь во весь рот.
Фиалкой торговые моряки прозвали скверик у летнего цирка, неподалеку от ворот в порт, видимо за то, что девчушки Владивостока встречали их там всегда с букетиками фиалок, такими же по-весеннему нежными как их глаза, открытые ресницами для первой любви.
– Завидую, – тоже махнул своей ветошью Николай. – Нам еще стоять да стоять. Что-то с погрузкой на этот раз резину тянут…
Вот и позавидовал. И заныло в памяти из той же песни торговых моряков: «Напрасно старушка ждет сына домой».
В конце июля, возвращаясь во Владивосток, на месте гибели «Трансбалта» дали длительные гудки. Вся команда, свободная от вахт, вышла на верхнюю палубу. Почему-то с вызовом ждали японский крейсер, всю войну курсирующий в проливе Лаперузы с проверкой торговых судов ДМП. Но его не было.
– Затаились япошки, – выдавил из себя пожилой боцман. – Чувствуют чья собака кость съела. Но подождите она у вас в горле встанет. – и, забывшись, впервые плюнул против ветра.
А темные волны бились о борт, скрывая тех, кто никогда не всплывет из холодной глубины в том числе и Алешу.
И этот осколок до сих пор колит сердце.
Николай тогда еще не знал, да и не мог знать, сколько его сверстников осталось в глубине Тихого океана. А их было: 13 мальчишек и в основном по 14 лет. Их имена на черном граните на берегу Золотого рога.
Его пароход со спущенным флагом миновал злосчастный пролив и благополучно пришел во Владивосток. Казалось бы, теперь можно было взять долгожданный отпуск или хотя бы отгулы за время беспрерывной работы – и к маме. Небось наслышалась. Но опять: не тут-то было.
И этот осколок вспыхнул в памяти.
В первые дни августа, после разгрузки, пришел приказ – встать на рейд, быть в полной готовности и команду на берег не отпускать. Моряки терялись в догадках. Но не долго. Девятого августа была объявлена война с Японией. Пароход вошел в действующий Тихоокеанский флот и тут же, пришвартовавшись, взял на борт пятитысячный десант из лихих рокосовцев. Под покровом ночи вышел курсом в порт Сейсин. А Рокоссовцы, воодушевленный невидимым морем, под аккомпанемент трофейных немецких аккордеонов, горланили: «Наверх вы товарищи! Все по местам!» Старпом едва разогнал их по трюмам, сказав, что пароход – это ни окоп под Сталинградом на берегу Волги. Привлечете криками подлодку – и всем скопом «умрем под волнами».
При подходе к порту шестнадцатилетний моряк из Никонорке превратившись в кочегара 1-го класса Николая Долганова после ходовой вахты напросился у старпома вперед смотрящим на баке. Но сколько не напрягал зрение ни перископа, ни следа торпеды не обнаружил к своему сожалению. Но, не успел пожалеть об этом, как по носу раздался взрыв донной мины. К счастью, взрыв не произвел много вреда, видно мина взорвалась раньше времени. Но водяной толчок был такой, что нос парохода подбросило. А Николая выбросила с полубака за борт. Вынырнув, он бессознательно ухватился, как за спасательный круг, за что-то плавающее перед ним. Но тут же отдернул руки. Перед глазами был распухший труп самурая. Едва не стошнив и в страхе отпрянув, оттолкнул его ногами и начал суматошно молотить ими по воде, стараясь отплыть подальше, глядя в небо и взахлеб дыша его чистым воздухом. Но ему все казалось, что труп, то поднимаясь, то опускаясь горбом своим, старается догнать его, как акула.
Старпом, выбежав во время взрыва на крыло верхнего мостика и видя члена команды, который беспомощно барахтался в воде да еще возле трупа, бросил свое гибкое тело с небесной высоты за борт. В считанные минуты оказавшись рядом, отплевываясь, бросил, как выговор:
– Салага! Ты что плавать не можешь!?
– Да могу… Могу я, да тут японец… Я думал он живой, а он.., Кто его так, человек ведь, – ошалело отвечал Николая, повернувшись со спины на грудь и поплыв в размашку.
– Тогда двигай за мной.
Они одновременно подплыли к штормтрапу, который свесил им по борту боцман.
Николай ухватился за балясины, но не полез, уступая место старпому.
– Жми первым, – подтолкнул его старпом, нарушая субординацию. – Тоже мне нашелся…
На палубе Николая окружили Рокоссовцы. Один из них протянул ему трофейную губную гармошку, сказав:
– Держи, моряк, будешь играть, когда самураев ваших расколошматим также, как фрицов, и помнить, что ты в этом был участник.
После первого десанта был второй: На Южный Сахалин. Потом – третий, на Курилы. Там и услышали объявления генералиссимуса Сталин об окончании Второй Мировой войны. Запили радость японской «жми-дави», так прозвали наши победители баночки с ватой, пропитанной спиртом, которую самураи, поджигая, спаслись от морозов во время холодной зимы. И запас которых хранился в каждом неприступном доте, и как нельзя кстати пригодился нашим гвардейцам после десантов, когда приходилось бросаться в ледяную воду, чтобы достичь каменистый берег курил.
А моряк Коля, причастный к этому, был уверен: теперь во Владивосток – и наконец-то к маме, увидеть ее и одарить теплой канадской кофтой и диковинным японским кимоно из цветастого шелка. А о деньгах, которые накопил, не тратя зарплаты, – всю немалую сумму ей. Живи, дорогая, и не знай нужды. Да о какой нужде теперь говорить. За морем живут люди и в помине, не зная никакой заботы. Теперь заживем и мы не хуже, а то и лучше. С товарищем Сталиным нам- все нипочём.
Но, не заходя во Владивосток, пришли в порт Дальний, загрузились солью и ушли на Филиппины. А там с разгрузкой не торопились. Несколько месяцев томились в тропической жаре, благо еще, что на рейде. Потом ушли в Гонконг на годовалый ремонт и после него – по кругу шарика.
Вернулся пароход во Владивосток, когда при плохой, да и секретной тогда связи, родственники моряков их уже не ждали. Николая вызвали в кадры и молча протянули ему телеграмму. В ней было коротко: «Мама твоя почила» И подпись: «Крестник». Он с трудом соображая, глухо спросил: «Когда пришла?» – «Да год тому назад». И предложили:
– Можете взять отпуск.
– Поздно, – сказал он, глотая слезы от острого осколка, застрявшего в горле.
Тогда он сдавал экзамены в среднюю мореходку, о которой мечтал все последнее время. Как и все его сверстники, бывшие юнги огненных рейсов, ставшие рядовыми специалистами первого класса, которые все еще были прикрыты «броней». Их не призывали в армии, не увольняли по желанию.
Отпускали только на учебу. Дальневосточное пароходство все еще остро нуждалась в кадрах. Особенно командного состава. Тут им все льготы при поступлении. Даже на экзамены смотрели спустя рукава. Но какие знания остались у ребят, окончивших школу несколько лет назад. В учебе наверстают. Было бы желание. А желание увидеть себя капитаном или стармехом – хоть отбавляй. Только не упускай случай. Он решил, сдерживая порыв сердца, маму не вернешь, да и время посетить родную могилку еще будет впереди, а случай «шаровой», навряд ли подвернется еще. Не используешь – не реализуешь выпавшие тебе возможности. И на старости будешь кусать локоть с досады такого упущение.
После окончания мореходки получил рабочий диплом третьего штурмана. Стал наплавывать беспрерывный стаж, чтобы получить, не затягивая резину, диплом второго, а за ним и капитана. Стал им. Тралил рыбу на сельдяных, да камбальных банках. Потом принял китобойц. Азартная охота его устраивала. Да и хорошо оплачивалась. А ему это было на руку. Он уже был женат и надо было свить гнездо, где молодая жена могла стать матерью.
Встретил он ее случайно, а может быть и нет.
Выглядел он тогда залихватски. Уже был капитаном зверобойной шхуны. Выгребался на берег в том же, что и в море не снимал. И не стеснялся. Мог бы и в синий костюм облачиться с белой сорочкой и черным галстуком. Но хотел видеть себя и на берегу, таким каким был в море. Всегда в кожаных рыбацких ботфортах, с высокими голенищами, вывернутыми до колен, в просоленной куртке без всяких регалий. И грудь – нараспашку. На бесшабашной голове ллойдовская штурманская фуражка с широким козырьком. Каждой портовой девчонке ясно – настоящий морской волк перед ней и будет ждать его как Асоль. Мечтал о такой. И встретил неожиданно возле кинотеатра «Комсомолец». Она стояла в толпе у касс, в ожидании случайного билетика. Прошел бы мимо. Но это была та, образ которой носил в своем сердце. И остановился, не веря своим глазам. А она спросила: «У вас лишнего билетика не будет?»– «Нет, так будет! – ляпнул он, уже сознавая, что и этот счастливый билет и его надо вытянуть. Иначе – жизнь не в жизнь. И, чтобы не оплошать, заявил: «Но два – и рядом. Согласна?» – «Согласна»– быстро ответила она. Он – к администратору. У нее как всегда были в запасе билеты для таких как он. Торговые моряки и рыбаки во Владике были в почете еще с войны и Огненных рейсов по ленд-лизу.
Они вышли из кинотеатра, чтобы никогда не расставаться.
Так и жили, и вскоре начали ждать ребенка.
Решили, что декретный отпуск она провидеть у своих родителей. Те жили в деревни, в четырех часах езды на автобусе.
– А потом, – пообещал он жене. – наконец-то, я во главе своей семьи, что будет моим оправданьем в долгом отсутствии, заявлюсь на мою малую родину. Ты согласна?
Попробуй с тобой не согласиться, – прижалась она к нему так, что у него дрогнула душа в каком-то предчувствии.
Отправил жену с легким сердцем, пообещав навестить в выходные дни. Но вечером ему позвонили. Глухой голос сказал ему, чтобы он приехал в городской морг для опознания.
– Для опознания, – переспросил он, еще не сознавая откуда ему звонят.
– Кого?
– Вашей жены….
– Кого черта! – взорвался он, уже холодея. – Моя жена уехала в деревню.
– Автобус сбила встречная машина, – устало, но бесстрастно продолжал голос. – Он упал с моста в реку. Погибли все пассажиры.
Он ехал в морг все еще на что-то надеясь. Поверить не мог. Казалось ему, что если случилось для него неповторимое, то все люди вокруг него сейчас должны быть другими, должны быть поражены, как и он. Но они все так же переговаривались, шутили, молчали, не обращали на него никакого внимания, будто он был в таком же состоянии, как и они. А может ничего и не произошло. А если бы произошло, то гудел бы весь город. Столько людей сразу. И это не в море где-то во время гибельного шторма, а на берегу. Не может быть такого. Не может! Теплилась надежда, пока не зашел в стылый морг.
Ее вздутое застывшее тело лежало на голом топчане, небрежно полуприкрытое серой простыней. Лицо было мраморным. Какое-то удивление застыло на нем навечно. Глаза были закрыты.
Он упал на колени, боясь дотронуться. Шепотом просил, почти теряя сознание:
– Открой глаза, открой глаза….
Едва вышел из морга. В голове стучало: «Ну, почему не я? Почему не я!? Как я мог послать. Я не чувствовал, не позаботился, как она обо мне, когда в десятки тысяч миль от нее, в Антарктике, ночью в снежном заряде мой китобойц едва не врезался в айсберг. И она на таком чудовищном расстоянии от меня почувствовала это. И утром радист принес радиограмму: «Милый беспокоюсь сообщи срочно как ты люблю целую твоя».
Вручая ее, молодой радист восхитился:
–Вот это жена! Надо же так… Она будто была рядом, а то и вместе с нами.. Мне бы такую….
– Ищи и найдешь. Какие твои годы – тогда отшутился Николой Фотейвич, сам растроганный до глубины души предчувствием любимой.
А сейчас терзал себя: «А я, провожая, не обратил внимания на предупреждение сердце. Отпустил ее. Как мог!?
На похоронах словно окаменел. Товарищи советовали:
– Заплачь, капитан, душе легче станет.
Да и старушки со стороны ее родителей нашептывали молитву; «Зряще мя, безгласна и бездыханна предлежаще, восплачете о мне. Вси любящие мя, целуйте мя последним целованием».
Он прижал свои вздрагивающие губы к ее холодному мраморному лбу. Но «восплакать», не смог. С юности был приучен: «Ты моряк! А это значит: моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда!» Готовила это военная песня его к душевным испытаниям, но к не таким же. И все же, собрав всю свою волю держался, не давая расслабиться на виду у всех, как на глазах своей команды. И только ночью, прижав к себе подушку, еще пахнущую родным телом, разрыдался и не мог успокоиться до утра. Ее закрытые глаза все были перед ним. Он, как в беспамятстве, чувствуя свое бессилие, свою беспомощность вновь умолял:
–Открой глаза. Открой!
И чтобы забыться залил этот осколок водкой. Да разве зальешь. Взял себя в руки и зажил в одиночестве. Что-то было заложено в нем его предками и материнским молоком: любовь с первого взгляда и навсегда. Заставляло жить по мере сил и духа, не представляя себе другую семью и те глаза, которые в памяти не угасали.
Все еще был крепок. Свою «легкую морскую походку» держал. Был высок и не сутулился. Сверстницы на него заглядывались, да и те, что были моложе его и намного. Но он был непреклонен. «Однолюб», – завидовали они той, которая жила в его сердце.
Таким и вышел на пенсию. Но работу не бросил. Подменял капитанов, уходящих в отпуск, а то дежурил на списанных пароходах. О малой родине словно забыл. Да и родная могилка держала, как якорь за твёрдое дно.
Она для него была как нечто, что хранила самое дорогое для него. И то был не прах под землей. Она сама с холмиком, с бюстом, на женственном, округлом лице которого из белого мрамора неизменная улыбка радости, той которой встречала его всякий раз, когда он приходил с рейса, хранила в себе что-то такое, что жило в его душе, составляла явную сущность вечно живущего в нем, но молчаливого. И вместе с тем благодарное тому, кто приходит к ней, убирает ее, склоняется над ней. Она чувствует это. Ему казалось, что могилка вобрала в себя, что было похоронено им, но осталось в памяти. И она теперь воплощение этого. Но живет в ней. И будет жить пока он ее посещает. Она успокаивает, облегчает его печаль. И не только: чем бережнее он за ней ухаживал, тем сильнее было ее чувство к нему. И наполнял его какой-то душевной силой, которая от нее исходила.
В юбилей, в марте 198О года в самый разгар неразберихи в стране с опустевшими прилавками в магазинах с ваучерами – зароком быстрого обогащена, с провалом всего что была наработано, рассматривая свой архив, наткнулся на пожелтевшую телеграмму. Едва разобрал блеклую строчку: «Мама твоя почила Крестник» И она уколола сердце давним укором. И он сказал себе, будто оправдываясь перед самим собой: «Лучше поздно, чем никогда. Да и время такое, впору самому ноги протянуть. И моя могила встанет вместо меня. Но некому будет ее посещать. А как же та, которую я всегда посещаю, не говоря о той, над которой я до сих пор не склонил голову и не прибрал.
Успокаивая себя и боясь, как бы опять судьба не внесла свою коррективу, пришел к могилке, чтобы уверить себя и ее, которую оставляет без присмотра, может быть навсегда, в том, что иначе поступить не смог.
Убрал толстый слой листвы, всю зиму согревающий ее, как одеяло. Положил у изголовья печальный букетик. Склонился над ней. Пригладил землю. Смахнул слезу, будто расставаясь навечно. Все же годы не те, когда говоришь: «До свидания». А она ровно благословила его, шепнув: « Могилка мамы запущена. А на ней крест стоит. И он покосился».
Собрался быстро. Да что одинокому. Котомку на плечи – и странствуй.
Товарищи, его коллеги по добывающему рыбацкому флоту, такие же пенсионеры как он, с которыми коротал время на берегу Амурского залива, вспоминая минувшие дни и рейсы, где бывали они, говорили ему не без завести:
– В деревню, да весной. Глядишь и расцветешь, капитан, как одуванчик.
– Это я-то…
– Какие твои годы. В самый раз на свежий воздух. И на редисочку.
– Хватит болтать. На погост еду. Долг отдам. И назад.
Примолкли было. Запили печальное пивом и опять за жизненное:
– Прихватить бы тебе на всякий случай как прежде, когда мы к родителям в деревню ездили, наших баночек с крабом, с селедочкой, с сайрой в оливковом масле, а то и тресковой печеночки. Да где их взять. Плавзаводы наши консервные проданы на гвозди. Прилавки пусты. А в деревнях что… Поминать-то чем будешь. Да и с земляками встрешься не с пустыми руками. Мало ли что. И советовали:
– Хоть колбасы прихвати. И не забудь про бутылку. Она сейчас везде и всюду в самый раз.
– Отпадает, – возразил он. – Насколько я знаю, мои староверы народ не пьющий.
И от бывшего судового помполита, обычно помалкивающего в сплоченной компании, уже привыкшей вести свободный разговор со стаканчиком винца или бутылкой пива не оглядываясь, услышал партийное назидание, не требующие как бывало возражения, да еще и с угрозой:
– Капитан, считаешь себя старовером!? Раньше что-то не говорил об этом. А сказал бы, то партийный билет выложил бы на стол как пить дать.
Николай Фотийвич посмотрел на него с удивлением. Опять за старое. Да и откуда такая вражда у него к староверам. Он их и в глаза не видел. И надо же. Разве что родители его переселенцы из Украины. И были у них стычки со староверами. Те их не уважали. Помнил, что отец их хохлами звал. Но дело не в этом. Сейчас-то зачем такую угрозу, ей уже цены нет. Как и партийного билета. Но, видно, крепко засели в помполите его партийные догмы. И сейчас хлебом не корми, чтобы использовать их и показать себя, что ты настоящий помполит перед лицом всех.
Он знал по работе таких. С войны помполиты в судовой команде. По штату – 1-й помощник капитана со всеми соответствующими регалиями на рукавах и на фуражки. Большей частью без всякого морского образования до и обычного тоже. Но проштудировал на партийных курсах основы Марксизма – Ленинизма, «Историю ВКП/б» и биографии Ленина, Сталина. Они у него в каюте, как на показ, – на столе. И в любой шторм, как принайтованные. Не свалятся. Партийный воспитатель каких поискать. А по существу: на судне – первый бездельник. Никакой вахты не несет. В работе – только в авралах во главе.
Как-то в порту США чиновник от власти, проверяя штат команды, спросил у Николая Фотийвича:
– Что-то у вас помощников капитана четверо. Троих вам не хватает?
Впервые Николай Фотейвич замялся с ответом.
Чиновник понятливо качнул головой.
– Понятно, почему у вас нет безработных.
В то партийное время, такою угрозу, сказать честно, Николай Фотийвич бы молча проглотил. Но сейчас в сердцах отрезал:
– Я в душе считал себя от роду – старовером. И это не мешало мне идти по заданному партией курсом.
– А я коммунист! – парировал помполит.
И это вызывало уважение к нему. Несмотря ни на что, он не изменил своим убежденьем -быть нравственным, и не вилять туда-сюда в зависимости от ветра. И отвечать за каждого члена команды загранплаванья, который мог нарушить это. Были и такие, которые давали драпа заграницей. Чужая душа – потемки, тем более для закоренелого атеиста, который в своей-то разобраться не может и порой завидует священникам, которым всяк открывает душу.
И тогда шел под арест на несколько оставшихся лет – помполит. Вроде бы верно. Кому же ещё, тем более там, где каждый отвечает за свое. Но тут как бы не так. Вместе с ним шел и капитан. Так что, что тут делить между собой. Бери выше. Это сейчас все ясно. Но тогда было еще ясней. И никто не роптал. И если повезет, то вместо того, чем в мерзлый забой, в бухту Находка порт строит. Там ребята и на «Жучок» пристроят по специальности – капитаном. А помполита для перевоспитания к себе взять матросом. Пусть концы потаскает – в будущем пригодится.
– Да кто спорит, – пожал плечами Николай Фотийвич, зная, что перечить такому помполиту, это плевать против ветра. И сказал миролюбиво. – Я тоже коммунист. Да все мы коммунистами были даже беспартийные. Точно, ребята?
– Да кто сомневается, – ответил один за всех.
– Я! – сказал помполит. – Ибо никто из вас не встал на защиту партии, когда ее запретили. Да и я тоже.
– Поэтому ты меня не осудишь, – улыбнулся Николой Фотийвич, чтобы оборвать острую тему, – если я вместо «Марксизма – Ленинизма» все же возьму в дорогу то, что посоветовали товарищи.
Но все-таки водку брать не стал. А на всякий случай, прихватил плоскую бутылочку японского виски грамм на 250 с маленьким стаканчиком на горлышке. Будет чем помянуть. И то ладно.
Глава вторая.
В П У Т И
В автобусе дальнего следования, размягчено устроившись у окна, с какой-то душевной взволнованностью вспоминал ту трепку, которую задал ему отец в начале тридцатых. Было же такое. Нашел что вспомнить. Значит, она имела какое-то значение, что на всю жизнь врезалась в память.
Кончались тридцатые годы. Отгремели славой Хасанские события. Вся страна пела: «Мчались танки, ветер поднимая
Наступала грозная броня
И летели наземь самураи под напором стали и огня».
Было ему тогда десять лет. Его приняли в пионеры. Пришел домой в красном галстуке. Думал похвалит отец. Но тот пришел в ярость. Никогда он не виде его таким. Он сорвал с себя сыромятную опояску и начал хлестать ею, крича с пеной у рта:
– Павка Морозов объявился и в моей семье. Антихристово семя. Пакостник. Тот отца родного властям выдал. Он кормил его, поил, одевал. Работал, не покладая рук, а он его за кулака выдал. И ты за этим в школу ходишь!? Варнак! Еще раз этот ошейник напялишь, шкуру спущу. Мы от этой власти в тайгу ушли, чтобы ее век не видеть. А ты к ней липнешь. Скажи еще в школе, что ты из староверов, так тебе все дороги будут закрыты…. И чему учат… Безбожники… Вот тебе! Вот тебе! – И тонкой, как плеть, опояской по заднице, благо прикрытой штанами из «чертовой кожи».
Мать пыталась защитить сынишку. Но и ей досталась. Отшвырнул ее, крикнул:
– Иди! Упади на колени перед Божией Матерью. Замоли его грех. Чему его в этой школе учат, на чо натаскивают…
Мать, встав на колени, истово крестилась. А Божия Матерь с ребенком на руках – хоть бы заступилась. И сильная хлестка отца не ослабевала.
А Никанорка терялся: дома одно, а в школе другое. Пришлось ему хитрить, чтобы дома не били, а в школе не дразнили. Галстук, возвращаясь домой, он стал прятать под кочку.
В школе на уроках пения разучивали песню:
Пионеры, в бога мы не верим!
– А где же ваши боги?
– Наши боги скачут по дороге-
Вот где наши боги!
Пионеры, в бога мы не верим!
– А где же ваше Рождество?
– Наше Рождество снегом занесло-
Вот где наше Рождество!
Пионеры, в бога мы не верим!
– А где ваша троица?
– Наша троица – в три шеренге строиться-
Вот где наша троица!
Или:
Провались, земля и небо,
Мы на кочке проживем,
Бога нет, царя не надо.
Богородицу пропьем.
Как-то молодая учительница спросила школят, кем они мечтают быть.
Один тут же ответил, преданно смотря в строгое око учительницы:
– Павкой Морозовым.
– Молодец! А ты, – кивнула она на другого.
– Чапаем!
– А ты, Долганов? – почему-то выделила она его фамилией, а потом уже с каким-то осуждением в голосе, ровно наткнулась на что-то неприемлемое для нее в его имени. – Никанор. – повторила, ровна давая знать это всему классу по слогам. – Надо же – Ни-ка -нор.
Он было сжался. Но, набычившись, ответил:
– Моряком!
Как ему показалось, весь класс захохотал. А кто-то выкрикнул:
– Нашелся моряк, с печки бряк.
Так и пошло.
Он давно замечал какую-то предвзятость к нему, будто был виновен в том, что из староверов. Замкнулся в себе. Но отец приметил и сказал:
– Они завидуют тебе, потому что ты не таков как они. И будь таким как ты есть. Не давай себя в обиду. Давай отпор. Силенки у тебя хватит. Ты хоть мал, но ни баклуши дома бил.
Ко всему учился он хорошо. Память имел отменную. Все схватывал на лету. Природной смекалки не занимать.
Отец не против знаний был. Сам много читал. Радуясь тяги сынишки к чтению, поучал: «Книжку не бросай. Для ума она, как оселок для ножа. Тупеть умишку не дает. Каждое буква в слове Книга не просто вписано. Запомни, буква К обозначат, что перед тобой – ключ. Н- найти. И – истину. Г- глаголом. А – автор. Заруби на носу. Мал правда и головка ишо пуста, но заполняй ее тем, что пригодится. Светлым, как родничок. Читай то, что тебя за сердечко хватает, как сказка кака».