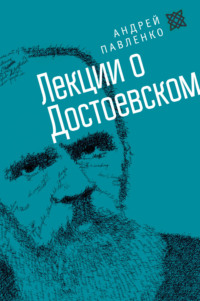Buch lesen: "Лекции о Достоевском"
Предисловие
Фёдор Михайлович Достоевский – о, сколько в этом имени для ума и сердца русского сплелось – да, и не только русского – сколько в этом имени поддержки и опоры для времени уже нашего?
Всякий, кто хотя бы раз в жизни брал томик сочинений Достоевского, кто открывал его, тот не мог, как, впрочем, не может и сейчас, оставаться безучастным и равнодушным к самому делу Достоевского.
Одни навсегда становятся покорёнными глубиной его психологической правды, его удивительными интеллектуальными открытиями, его почти детективной исследовательской работой ума, наконец, его обезоруживающей правдой жизни.
Другие, напротив, угнетаемые раскрытой им психологической правдой – словно им показали в зеркале их собственное отражение – приходят в состояние возмущения, а иногда и бешенства, наружно не демонстрируемого, но дáвящего на оболочку их сознания изнутри. Они ощущают себя так, словно их публично оставили без нижнего белья, словно их выставили напоказ и от этого они стали нарочито узнаваемы. Они завистливо не выносят его интеллектуального превосходства, приходя во внутреннее исступление от буквально обрушившейся на них правды нашего мира, которая так гениально и пронзительно представлена в его произведениях.
Итак, Фёдор Михайлович Достоевский никого и никогда не оставлял равнодушным. Одни его любят, другие – нет, но подчеркнём – все им одинаково захвачены, одинаково захвачены его гением.
Тем труднее оставаться равнодушными нам, теперешним, жизнь которых была провидчески, в основных своих чертах и подробностях, предсказана Достоевским. Он сумел не только продумать многие философские ходы мысли, но и провидел будущую судьбу России. Он почти с документальной точностью предописал те ядовитые плоды, которыми отравлялась Россия на протяжении всего ХХ-го века и начала века наступившего, и которые, в его время, обозначили себя только слабыми всходами, ещё не пришедших к полному вызреванию, но уже сущих и таких опасных побегов. Он провидчески предописал, как будет колебаться мир в своих жизнеутверждающих основах и как должна в этом мире быть и поступать Россия, в обстоятельствах ей не только недоброжелательных, но часто откровенно враждебных.
Он в деталях описал, как будут неблагодарны к России славяне и как следует великорусскому племени вести себя по отношению к отвернувшимся от него племенам славянским.
Однако между Достоевским Ф.М. и нами, живущими в ХХI веке, существует огромное различие. Достоевский ещё жил в Российской Империи, а мы живём в совершенно другой стране. Лукавая имитация Российской Империи сегодня силится выдать себя её правопреемницей, а её имитаторы – силятся примерить на себя её историческую ризу. В этом смысле нам тяжелее, чем было Фёдору Михайловичу, несмотря на все те тяготы и горести, которые выпали на его долю. Жизнь Достоевского была тяжела, но она была в правде, наша же жизнь, по видимости – легка, но по сути своей – лежит во лжи, она вся пронизана ложью имитаторов. И она будет оставаться таковой, пока не будет сброшено это имитаторское ярмо. Она ложна в том смысле, что мы не обладаем той свободой воли и мыслеизъявления, которая была в распоряжении Достоевского. Это и есть особенность нашей эпохи – мы внутренне скованы, мы подавлены имитаторами, которые от нашего лица, натужно силятся вещать, выдавая свою, усиленную имитаторским ядом, бездарность за нашу одарённость.
Эта внутренняя связанность оказывает пагубное действие на нашу свободу. Именно поэтому сегодня так мало способной отечественной философской мысли, что путь её преграждён имитаторами, на каждом шагу губящими и отравляющими всё способное и подающее надежды.
Что же делать? Отчаиваться? Нет. Но, в чём же тогда выход и есть ли он вообще? Есть! Например, если губы высохли от жажды, то не нужно ли прильнуть к живому источнику? Конечно, да! Так, не следует ли сделать то же самое и нам? Не следует ли нам прильнуть к тому источнику, который ещё целиком не вытравлен имитаторским ядом, и до которого ещё не дотянулись в полной мере скорописучие руки этих имитаторов?
Наш ответ однозначен: следует! Так обратимся же к мыслям и чувствам Достоевского, чтобы в его трудах, исканиях, легендах, прозрениях и предвидениях утвердиться нам самим. Утвердиться в нашей правоте, утвердиться в нашей собственной свободе мыслить. Мыслить твёрдо и правильно, черпая из этого источника новые темы, взгляды, точки зрения и подходы. Причём такие, которые позволят нам разомкнуть обручи, в которые заключили Россию имитаторы, вот уже без малого как сто лет назад. Обращение к Достоевскому, как и обращение к А.С. Пушкину, как раз и даёт нам ту основу, опираясь на которую мы утвердим уже нашу, теперешнюю, собственную мысль.
Вот именно с этой целью я и обращаюсь к трудам Достоевского. Делаю это осознанно, руководствуясь одной только надеждой – вернуть русской мысли ту свободу, которая питала её во времена Достоевского и которой напитаны труды самого Фёдора Михайловича.
Здесь, в «Предисловии», следует также отметить, что все четырнадцать лекций, включая «Вводную» и «Заключительную», были буквально записаны с первого января по десятое апреля 2014 года, то есть почти за три месяца. Однако затем мною было осознано, что излагая в «Лекциях» основные философские идеи Достоевского и обосновывая их нетривиальный характер, я слишком мало внимания уделял их международной востребованности, а также – демонстрации их влияния на взгляды других философов в России и за рубежом. Тогда-то и было принято решение написать к каждой лекции соответствующее «дополнение». Написание же «дополнений» потребовало бóльшего количества времени – несмотря на их меньший, в сравнении с «лекциями», объём – и было завершено только к концу марта 2015 года.
Кроме того, перед самым изданием «Лекций» я принял решение – опираясь на уже имеющийся опыт издания «Теории и театра» – вставить в книгу ту саму статью, в которой, собственно, и был зафиксирован мой первый опыт встречи с творчеством Достоевского и его идеями. Я имею в виду публикацию статьи – «Лицо русской философии» в шестом выпуске журнала «Философия и культура» за 2009 год.
Профессионально занимаясь вопросами «онтологии», я всегда боковым зрением отслеживал анализ проблемы «существования» в русской философской мысли. Поэтому познакомившись, уже в достаточно зрелом возрасте, с трудами Ф.М. Достоевского, я никак не мог избыть в себе возникшее недоумение – почему такой глубокий и выдающийся философ занимает такое ничтожно маленькое место в современном «реестре» у прогрессивных «специалистов»?
Судьбе было угодно предоставить мне случай выступить в Институте философии РАН 16 ноября 2006 года на заседании философского общества, приуроченного «Всемирному дню философии». Именно в этом выступлении я впервые и предложил тему «Лица русской философии», задав аудитории два простых вопроса: 1) кого бы мы могли считать таким лицом в русской философии, памятуя о том, что лицом греческой философии были Платон и Аристотель, французской – Декарт и т.д.?; 2) кто из русских философов обладает универсальным значением, то есть, труды которого всемирно известны, идеи которого оказали влияние не только на философию, но и на всю мировую культуру, наконец, труды которого наиболее цитируемы? Отчётливо помню, как после заданных вопросов аудитория затихла. Многие, видимо, ждали, что я назову кого-нибудь из «присутствующих», но я назвал имя «Ф.М. Достоевского».
Именно с этого доклада и начинается моё осознанное и целенаправленное стремление к изучению трудов Ф.М. Достоевского и анализу его философских идей. Могу сказать без ложной скромности, что многие его идеи – проанализированные, например, в шестой и седьмой «Лекциях» – насколько мне известно, вообще не были поняты или даже описаны в русской философской традиции после смерти Фёдора Михайловича. В этом смысле, мне пришлось выступить переоткрывателем этих идей и аргументов – ведь у Достоевского они все уже были (!) – для современного читателя.
Поэтому своей задачей я ещё вижу и упреждающее напоминание тем «горе-специалистам по Достоевскому», которые, обсуждая работы Фёдора Михайловича, пытаются на страницах своих «сочинений» беседовать с ним, что называется – «на равных». Не тужьтесь, господа! У понимающих людей эта ваша манера вызывает, в лучшем случае, улыбку. В «Вводной лекции», в качестве иллюстрации, я приведу несколько примеров подобного – «панибратского» и «ремесленно-высокомерного» отношения к наследию Достоевского, а также покажу – к каким плачевным следствиям (нелепостям) это приводит.
Однако хотелось бы это «Предисловие» завершить на положительной ноте. Я искренне рад тому, что своими «Лекциями» привлеку ещё раз внимание к имени великого русского философа, который оставил нам свои труды как бесценный дар, к которому мы все вместе – и каждый в отдельности – можем приобщаться, по мере возникающей в этом необходимости. Я также вполне допускаю, что после меня придут исследователи, которые напишут о философских взглядах Ф.М. Достоевского глубже и лучше меня. Но пока они не пришли, я могу питать основательную надежду тем, что мои «Лекции» послужат дельным подспорьем всякому, кто неравнодушен к действительной философской мысли и кому небезразлична судьба русской культуры, в целом.
В заключение следует отметить, что основное содержание настоящих «Лекций» было прочитано студентам кафедры «философской антропологии» философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в зимних семестрах 2013 и 2014 г.г.
Вводная лекция
Вопрос: Определение места философских взглядов Достоевского Ф.М. в системе литературного и философского знания в целом
Когда заходит речь о русской философии, то принято выделять её неявные формы (в литературе, переписке, богослужебных текстах и даже в архитектуре1) и явные формы, то есть такие труды наших соотечественников, которые писались именно с философскими целями, осознанно философски и, преимущественно, в силу специфичности языка, – для философов. Но и здесь, в явных формах, можно, правда, весьма условно, выделить предфилософскую стадию и стадию собственно философскую.
К предфилософской стадии я бы отнёс труды А.С. Хомякова, И. Аксакова, И. Киреевского и др. По какой причине? Причина в том, что для названных имен философия не была делом всей жизни, родом занятий по преимуществу. В большинстве своём, это были дворяне, увлекавшиеся философией; в определённом смысле, они ещё не были «профессорами философии».
И совсем другое дело – стадия собственно философии, когда последняя становится основным занятием жизни, а занимаются ею – профессора философии. Эту стадию я бы начал с Памфила Даниловича Юркевича и с его работы «Сердце и его значение в жизни человека, по учению слова Божия».2 Именно с Юркевича начинается поступательное и последовательное становление русской философской мысли. Его учениками были В.С. Соловьёв и, отчасти, Л.М. Лопатин. А далее следуют имена Е. Трубецкого, П.А. Флоренского, В. Розанова и многих, многих других, кто занимался философией уже профессионально.
Однако и здесь возникает затруднение. Суть его в том, что, будучи философами русскими, они таковыми и оставались, не покидая границы русского культурно-исторического поля. В самом деле, их имена, за границами этого поля, мало кому известны. Мы можем спросить: почему? Ответ напрашивается сам собой: потому, что они были религиозными философами, а западно-европейская философия, в её доминирующих сферах, начиная со второй четверти 19 в., становится светской: позитивизм, эмпиризм, прагматизм, материализм и т.д.
И здесь возникает новый вопрос: а может ли быть философия «религиозной» в принципе? С моей точки зрения – нет! Потому что, в случае «религиозной философии», последняя выполняет служебные функции, т.е. является служанкой религии.3
Вывод, который следует нам сделать, получается единственный: философия может быть только «философской».4
Здесь будет уместно отметить, что западно-европейская философская мысль прошла религиозную стадию в 17 в. и завершила её в 18 в., ознаменовав это завершение появлением критических5 систем. Сюда бы я отнёс Р. Декарта, Г.В. Лейбница, И. Канта и некоторых других. Почему же появляются эти критические системы? Потому что главный вопрос философии – это вопрос о том: «Как возможно существование какого-либо объекта?». Это и есть онтология и её главное дело.6
В России, к сожалению, существовали и продолжают существовать, в основном, эпигоны философии западной. Наиболее ярким примером бесплодности, возведенной на пьедестал умиления, является, конечно же, П.Я. Чаадаев. Написав «Философические письма», и, при этом, не предложив в них ни одной новой собственной философской идеи, он, тем не менее, вознамерился судить обо всей русской культуре, постоянно пеняя ей её «пустотой» и «несостоятельностью».
Вообще, следует заметить, что чтение писаний Чаадаева поражает любого здравомыслящего читателя – хоть сколько-нибудь знакомого с нормами логики – несостоятельностью аргументации, часто откровенно граничащей с глупостью. Ведь, нарекая русскую культуру «несостоявшейся», и полагая её неким «минусом» в общей европейской истории, неужели же он не понимал, что и самого себя – как относящегося именно к этой же культуре – он точно также полагал «минусом» и «несостоявшимся»? Заметим, сам П.Я. Чаадаев ничего не создал, но постоянно брюзжал о «пустоте» культуры в России. Но как мог такое написать современник А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.И. Лобачевского, М.И. Глинки и многих, многих других? Это в моей голове просто не укладывается.
Приведем здесь показательный пример, чтобы не казаться голословными. Возьмем 1-е письмо из его «философических писем». Чаадаев пишет: «…что бы там не говорили, мы составляем пробел в порядке разумного существования».7
Поразительный факт, к которому в этих «Лекциях» я ещё не раз буду возвращаться – А.С. Пушкин, а в особенности Ф.М. Достоевский, часто выводили в образах описываемых ими героев своих современников. Вот так и с Чаадаевым. Пушкин писал: «Второй Чаадаев, мой Евгений». В 1821 году Иван Якушин принимает Чаадаева в тайное общество – масонов. В 1828–30 г. публикуются его первые семь «философических писем».
У А.С. Пушкина мы находим такую реакцию на чаадаевские «сетования»:
« Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с этим согласиться. <…> разве не находите вы что-то значительное в теперешнем положении России, что-то такое, что поразит будущего историка?».8
Чаадаев, словно отвечая Пушкину и упорствуя в своём самоутверждении национального нигилизма, т.е. самоутверждении собственной «пустоты», резонирует:
«…если мы обладаем некоторыми достоинствами народов молодых и здоровых, то мы не имеем ни одного, отличающего народы зрелые и высококультурные».
Мы специально привели слова Чаадаева, чтобы намеренно усилить впечатление от той ситуации и обстановки, в которой пробивала себе дорогу мысль русская.
Очевидно, что в общественно-политической сфере это граничило с болезнью, которую позднее – во второй половине 19 в. – опишет Н.Я. Данилевский, дав ей ёмкое определение и назвав её «европейничанием».
В чём же причина этой болезни? Ответ поразительно прост: в существовании рядом с Россией очень мощного «культурно-исторического типа» – Европейского (романо-германского).
Как же существование этого типа отразилось на становлении философии в России? В абсолютном большинстве случаев русские мыслители (философы) оказывались под мощным влиянием философов европейских. Легко привести примеры. В 19 в. властителями дум становятся Фихте, Гегель, Шеллинг. Они оказывают влияние на Соловьёва В.С., Л.М. Лопатина и на многих до и после них.9
Что же оставалось этой философской мысли – понятой именно как самодвижение мысли в понятиях – в условиях, с одной стороны, господства религиозной философии, а с другой стороны, в окружении интеллектуальной немощи, бесплодности и национального нигилизма чаадаевского типа?
Ответ прост: оригинальная философская и историческая мысль, притесняемая в публичном пространстве эпигонами западного «направления», типа П.Я. Чаадаева и Т.Н. Грановского, выведенного, позднее, Ф.М. Достоевским в «Бесах» в образе Степана Трофимовича Верховенского, а в профессиональном пространстве ограниченная религиозными рамками, как это было в трудах П.Д. Юркевича, В.С. Соловьёва, Л.М. Лопатина и других, была вынуждена искать такую площадку, на которой бы не испытывала угнетающего давления этих двух для неё отрицательных условий. И такие площадки были найдены: оригинальная философия разрабатывается не профессиональными философами, – «профессорами философии», – а учёными и писателями. Почему же произошло именно так? Почему этот причудливый изгиб русской мысли вообще возник? Ответ прост: 1) в силу рода своих занятий представители этих областей не испытывали буквального подавляющего влияния западной философии, чем обеспечивалась свобода самостоятельно формулировать новые проблемы, и 2) они, в большинстве своём, были свободны от того комплекса национальной неполноценности, который навязывался образованному обществу «письмами» и «записками» интеллектуалов либерально-чаадаевского толка. Другими словами, философия творилась в тех областях, заслуги и достижения в которых было невозможно ставить под сомнение и уж тем более – отрицать их. Я имею в виду литературу и науку. Получается, что оригинальные философские идеи выдвигались учеными и писателями.
По моему глубокому убеждению, примером такой оригинальной мысли и может служить философская концепция Ф.М. Достоевского.
Вопрос: Современная ситуация
С 1917 г. по настоящее время, т.е. 98 лет, имя Ф.М. Достоевского официально замалчивалось. Юбилеи и годовщины – с точки зрения масштаба его мирового признания – подчеркнуто минимизировались, а сам вклад Достоевского в русскую и мировую культуру – не замечался. Большевики10 не могли простить ему «Бесов», необольшевики – «жалких либералишек».
Хорошо помню как один советский литературовед с гидронимической фамилией, выдвинул в 90-е годы прошлого столетия «креативную» версию жизни Ф.М. Достоевского, (граничащую, на мой взгляд, то ли с собственным помешательством, то ли с личной неприязнью к Фёдору Михайловичу), в которой повествовалось о том, что Фёдор Михайлович, якобы, был причастен к убийству собственного отца, а «Братья Карамазовы» – это автобиографический роман.
С другой стороны, достаточно посмотреть подборку последних публикаций о Достоевском (например, в журнале «Вопросы философии»), чтобы обнаружить поразительную приверженность этой «партии достоевскофобов» ценностям «февраля и октября 17-го года». Все мотивы и темы сочинений Достоевского «выводятся» ими из его «психического расстройства», «моральной повреждённости» и «бытовой неустроенности». Приведу лишь пару показательных примеров.
ПРИМЕР ПЕРВЫЙ:
«Вся жизнь «подпольных» людей, представленная нам в художественных произведениях Ф.М. Достоевского, заключается в том, что они постоянно что-то со своим грязным нутром делают, всё время в его грязи копошатся: то с интересом рассматривают, изучают и беседуют о нём с другими, то, как мокрое белье, навешивают грязь на нити своих отношений с другими, то – что крайне редко – пытаются рассуждать, как от грязи избавиться, очиститься. Последнее, конечно, понарошку, из любви к парадоксам. Но в любом варианте, копаться в грязи – их главное занятие».
Отсюда «специалист по Достоевскому» делает вывод:
«По этой причине романы Достоевского лишены отношений человека с природой (что вызывает живейший и продуктивный интерес, например, Тургенева, Толстого или Гончарова), и писателю не интересен человек в его позитивном деле, в сколько-нибудь конструктивном устремлении к светлому. Человек занимает Достоевского не в его измерении «от земли – к небу», свету, раю, но в противоположной направленности: в координатах «от земли – в её глубины», в устремлении во тьму, к «аду».11
Сколь же сильно с этим наговором контрастируют слова супруги Фёдора Михайловича – Анны Григорьевны Достоевской (Сниткиной) – которые в данном контексте выступают фактическим опровержением только что сказанного «специалистом»:
«Фёдор Михайлович приезжал к нам всегда благодушный, радостный и весёлый. Я часто недоумевала, как могла создаться легенда об его будто бы угрюмом, мрачном характере, легенда, которую мне приходилось читать и слышать от знакомых»12.
ПРИМЕР ВТОРОЙ
«Никто лучше Достоевского не понимал, как помысел, утвердившийся в сознании, может вдруг открыть дорогу к поступку. Тут не социальное и историческое зло, которое может быть устранено реформой, а то, что богословие называет первородным грехом. И преодолеть его может не реформа, а (как выражался Достоевский) «геологический переворот», преображение; не закон, а благодать. Достоевский с ужасом почувствовал, что в нём мало благодати. Когда он пишет, что человек деспот по природе и любит быть мучителем, это не реакционное мировоззрение, а мучительно пережитый опыт. Опыт расколотости между идеалом Мадонны и идеалом содомским».
Я намеренно опускаю имена этих «специалистов по Достоевскому». И делаю это по двум причинам.
Причина первая: «имена» этих «специалистов» в сравнении с именем Достоевского Ф.М. столь ничтожно малы, что ставить их рядом – означало бы сквернословить на саму реальность, чего я позволить себе не могу никак.
Причина вторая: упоминание этих имён послужило бы дополнительной популяризации тех, кто такого оглашения совершенно не заслуживает.
Итак, в чём же кроется причина такого отношения некоторых «современных специалистов» к писателю? По-моему, она проста: Достоевский – гениальный философ и писатель. Именно эта гениальность, да к тому же, как и подобает всякой гениальности – опирающаяся на национальные корни, на историю и культуру своего народа, т.е., в случае Достоевского, народа русского – кое-кому не дает покоя, а у некоторых, так и вовсе вызывает нескрываемую злобу. Но поскольку Достоевский – всемирно признанный гений, и, следовательно, его невозможно «уничтожить» информационно или попросту замолчать, постольку был придуман «творческий приём»: на «территории России» о Достоевском могут «профессионально» высказываться те и только те, кому это «позволят» делать уже «зрелые профессионалы», профессионализм которых вызревал ещё в «ценностях советской эпохи», вроде тех «горе-специалистов» «философические размышления» которых приводились выше. А у «зрелых профессионалов» одна и та же «теоретическая» база – «марксизм», да «фрейдизм». База для них наиболее естественная и понятная. Всё! Круг замкнулся: кто не «фрейдо-марксист», тот не «специалист». Ну, да Бог с ними…
Признаю, что наряду с той печальной картиной, которую мы только что обрисовали, необходимо, конечно, отметить и некоторые положительные сдвиги в направлении признания заслуг Достоевского в самое последнее время: недавно была создана замечательная кинематографическая история жизни Достоевского, а с 2013 г. режиссер В.И. Хотиненко взялся экранизировать роман «Бесы». Это можно расценивать как безусловный успех.
Однако о философских взглядах Достоевского, именно по существу его философских тезисов и без оскорблений великого писателя, всё равно написано ничтожно мало. Кое-где можно встретить упоминания о нём лишь как о «русском мыслителе» второй половины позапрошлого века13.
Должен признать, что в этом вопросе нам не смогут существенно помочь и зарубежные исследования, например, та же работа немецкого исследователя Рейнхарда Лаута14 «Философия Достоевского в систематическом изложении», впервые изданная Германии в 1950 году, несмотря на всю её обстоятельность. Причина проста: сам Лаут (1919–2007), будучи, в большей степени, профессиональным культурологом с философским уклоном (он защитил докторскую диссертацию в 1942 г. о «познании, значении и достижениях в современной французской литературе и изобразительном искусстве»), понятно, был вынужден оставить за границей своего рассмотрения и естественнонаучные идеи Достоевского (легенда о «Грешнике»), и логический анализ тезисов Достоевского (легенда о «Затравленном мальчике», легенда о «Великом инквизиторе»). Хотя сам факт того, что Лаут написал целую книгу о «систематическом изложении философии Достоевского», причем в положительном ключе, выводя эту философию не из «болезненных состояний психики» Фёдора Михайловича – как это стало принято у многих «современных специалистов» – а из его цельной нравственной натуры, безусловно, заслуживает признания, а сам автор – безусловного уважения. Ведь и среди западных исследователей-славистов не все соглашались с «вкладом» Достоевского в философию. В качестве примера можно привести точку зрения того же Михаэля Хагемейстера15, который полагал, что Достоевский не является философом16.
Поразительно, что именно только в эти 50–60-е годы 20 в., но уже в «советской России» (СССР), мы также встречаем редкие положительные философские удачи17. Например, нельзя не упомянуть весьма оригинальное исследование Э.Я. Голосовкера «Достоевский и Кант».18 В этом же году (1963) выходит и другая оригинальная работа о Достоевском – книга М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского»19. Работы нефилософского характера я оставляю без рассмотрения.