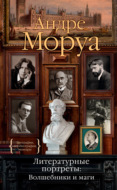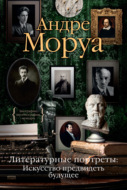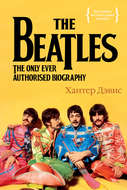Buch lesen: "Литературные портреты: В поисках прекрасного"
André Maurois
DE LA BRUYERE A PROUST
DE PROUST A CAMUS
Copyright © 2006, The Estate of André Maurois, Anne-Mary Charrier, Marseille, France
Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates
© Е. Д. Богатыренко, перевод, 2021
© И. Н. Васюченко, перевод, 2021
© Н. Н. Вернер, перевод, 2021
© Я. З. Лесюк (наследник), перевод, 2021
© В. А. Петров, перевод, 2021
© Ю. М. Рац, перевод, 2021
© К. А. Северова (наследник), перевод, 2021
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство КоЛибри®
От Лабрюйера до Пруста
Вступительная заметка1
Ревностный читатель, мой собрат и друг, ты найдешь здесь несколько очерков о книгах, всю жизнь даривших мне неисчерпаемое наслаждение. Хотелось бы думать, что мой выбор совпадет с твоим. Не стану утверждать, будто успел рассказать о всех прославленных книгах, но каждая из тех, о которых здесь заходит речь, представляется мне в чем-то великой. Расположив эти очерки в хронологическом порядке, я даже испытал счастливое изумление: оказалось (если уподобить изящную словесность горному хребту), в поле моего зрения попали высочайшие вершины. Переходя от «Исповеди» Руссо к «Замогильным запискам» Шатобриана, от Реца – к Стендалю, от «Отца Горио» – к «Госпоже Бовари», от Вольтера и Гёте – к Толстому и Прусту, мы следуем дорогой, которую озаряют ярчайшие путеводные светочи. Я постарался рассказать, чем восхищает меня стиль этих мастеров слова. Ты, может статься, найдешь для любви к ним другие причины. Но будешь ли ты в своих мыслях со мной заодно или против меня, в любом случае тебе предстоит провести несколько часов, дыша воздухом горных вершин. А он для здоровья полезен.
A. M.
Кардинал де Рец. «Мемуары»2
Жан Франсуа Поль де Гонди, будущий кардинал де Рец, родился в сентябре 1613 года в Шампани, в прекрасном замке Монмирай в двух десятках лье от Парижа. Замок этот высился на холме, травянистый склон которого террасами спускался к речке Пти-Морен. В день рождения мальчика там был выловлен осетр – совпадение, которое сочли добрым знаком. Семейство Гонди – флорентийцы, обосновавшиеся в Лионе и по воле Екатерины Медичи занимавшие высочайшие посты в королевстве. «Род, во Франции знаменитый», и, по определению кардинала, «древний в Италии». Этого последнего мнения придворный знаток генеалогии не разделял. Однако если насчет древности рода позволительно усомниться, то дворянство Гонди было реальным, ведь недаром же близ устья Луары специально для них было учреждено герцогство де Рец (или де Рес). Гонди дважды становились столичными архиепископами. «Парижское архиепископство – удел нашего рода», – заявляет автор «Мемуаров», а коль скоро он был младшим сыном, обычай и воля отца настоятельно требовали, чтобы он вне зависимости от своих склонностей избрал карьеру священнослужителя.
Рос он сначала в Монмирае, потом в Париже, где его воспитанием занялся месье Венсан де Поль3. Последнему не удалось сделать из своего ученика святого. Юный Гонди восхищался Цезарем и в восемнадцать лет, следуя итальянским образцам, сочинил трагедию «Заговор Фиеско», где уже вполне проявилась своеобразная мощь его стиля. Не жалея усилий, портил себе репутацию галантными похождениями и дуэлями в надежде избежать уготованной ему сутаны. Но «победить судьбу» не смог.
Осознав, что обречен принадлежать церкви, он решил по крайней мере служить ей с блеском: «занял первое место, сдавая в Сорбонне экзамен на степень лиценциата», стал почитаемым проповедником, обратил в католичество одного гугенота, и в 1643 году Анна Австрийская назначила его коадъютором (заместителем архиепископа) Парижа в сане архиепископа Коринфского in partibus (то есть только номинально), что являлось, по сути, синекурой. Ему было в ту пору двадцать девять лет. Тем и кончается первая часть его «Мемуаров», к несчастью сохранившаяся лишь в виде фрагментов.
Вторая часть посвящена истории Фронды. Она дошла до нас полностью. Гонди, сначала как коадъютор, позже как архиепископ Парижский, благодаря терпимости, красноречию, умению налаживать неофициальные связи с чиновной верхушкой столичных кварталов стал влиятельной церковной и политической фигурой. Он затеял сперва подспудную, а затем открытую борьбу с кардиналом Мазарини. Гонди разжег бунт против министров поначалу в парламенте, потом и на парижских улицах. После возвращения королевского двора в столицу Гонди получил кардинальскую мантию и добился изгнания Мазарини. Но такой успех был чреват опасностью. В стране, где правит женщина, притом еще не старуха, политическая победа – звук пустой, если она не подкреплена благосклонностью государыни. Мазарини, даром что побежденный, сосланный, остался более могущественным, чем победоносный, не покидавший столицы Гонди. В 1652 году кардинал де Рец был взят под стражу, заточен в Венсенский замок, и Париж не встал на его защиту. Его отправили в Нант, в крепость. Он бежал оттуда, вывихнув при падении с лошади плечо, но после ряда удивительных похождений в конце концов добрался до Италии.
Третья часть «Мемуаров» не закончена. Она содержит только рассказ о прибытии кардинала в Италию и восхитительное описание папского конклава.
В 1661 году после смерти Мазарини кардинал де Рец согласился сложить с себя сан архиепископа Парижского – при жизни покойный министр тщетно добивался от него этой отставки. Обеспечив себе таким образом примирение с королем, он удалился в свое поместье Коммерси, что в Лотарингии, где неизменным благоразумием поражал Францию, которая так долго дивилась его безумствам. «Если смолоду он жил как Катилина, то на склоне дней уподобился Аттику»4, – писал Вольтер, сравнивая его здесь с известным римским ученым и писателем, другом Цицерона.
Де Рец часто посещал Париж, где у него оставались очень близкие друзья. Госпожа де Севинье5 предпринимала усилия, чтобы развлечь его: «Мы стараемся забавлять нашего милого кардинала. Корнель читал ему пьесу, которую вскоре сыграют на театре, она будит воспоминания о драмах его юности. В субботу Мольер прочтет ему „Триссотена“6, очень занятную вещицу. Буало Депрео подарит ему свой „Налой“ и „Поэтическое искусство“. Вот и все, что можно сделать, чтобы его потешить».
Еще не раз он побывает в Риме, в частности на конклаве 1667 года, где происходило избрание папы Климента IX7. Частенько он наезжал туда с какой-либо дипломатической миссией, весьма ловко защищая интересы Франции. В 1675-м он хотел было сбросить с плеч кардинальский пурпур, испрашивал на то благословения папы, но получил отказ. В том же году он предоставил все свои доходы в распоряжение кредиторов. Скончался де Рец в 1678 году в Париже, в особняке своих племянников Ледигьеров8, согласно свидетельству Сент-Бёва9, оставив по себе память «как о человеке самом любезном, приятнейшем в общении и безупречном, прекрасном друге»…
Жизнь этого человека – необычайный, приключенческий сюжет, но история его книги не менее удивительна. «Мемуары» вышли в свет в 1717 году. Тотчас несколько малоизвестных критиков выразили сомнение в их подлинности. «Кто нам докажет, что так и есть?» – вопрошали они. Да и вправду ли Рец писал воспоминания? Даже его ближайшие друзья, похоже, понятия об этом не имели. Госпожа де Севинье еще в 1675-м говорила: «Настоятельно советуйте ему взять на себя труд записать свою историю и тем самым хорошенько позабавиться. Друзья упорно побуждают его к этому…» Стало быть, они склоняли его к написанию книги, но он не послушал или, если и сделал это, она о том не знала.
Однако в «Истории Лотарингии» отца Кальме10, ученого бенедиктинца, читаем: «Пребывая в Коммерси, он сочинил свои „Мемуары“, которые были опубликованы в трех томах в Нанси в 1717 году. Их оригинал, писанный собственноручно, хранится в аббатстве Муаенмутье». Не успел появиться тот первый трехтомник, а принцесса Палатинская11, вторая жена герцога Орлеанского, уже пишет из Германии: «У монахов обители Сен-Мийель имеется оригинал „Мемуаров“ кардинала де Реца. Они его отдали в печать и продают в Нанси, но в этом экземпляре многого недостает. Между тем в Париже есть одна особа, некая мадам Комартен, которая располагает манускриптом, где ни единого слова не пропущено. Однако она упорно отказывается выпускать его из рук, хотя с его помощью можно было бы восполнить то, чего недостает в других».
Отец Кальме и принцесса Палатинская не ошибались. Во время Революции рукопись «Мемуаров» и впрямь была найдена в монастыре города Муаенмутье, ее тогда передали в распоряжение министерства внутренних дел, и она, пережив затем довольно продолжительные странствия, обрела приют в Национальной библиотеке. Что до госпожи де Комартен, которую долго считали адресатом «Мемуаров», то она владела не оригиналом, а лишь набело переписанной копией, которую сама в свой черед поручила переписать еще раз. От нее-то сочинение и попало к книготорговцам, которые его издали.
Немудрено, что вокруг всех копий этой книги, которая никак не могла быть опубликована при жизни Людовика XIV, сгустилась атмосфера глубочайшей таинственности. В ту эпоху почтение к монархии возросло настолько, что старым парижанам, свидетелям Фронды, оставалось только дивиться, а эти воспоминания о днях, когда король и его мать, не одержавшие верх, были вынуждены бегством спасаться из Парижа, показались бы преступными. К тому же для самого кардинала, решившего отныне вести жизнь праведника, что одни осуждали как лицемерие, а другие, более осведомленные, считали искренним, было естественно стараться скрыть от мира рассказ о безумных деяниях своей юности.
Сочинялось ли это повествование на последнем, мирном и уединенном этапе его жизни? Представляется более вероятным, что оно, хотя бы в набросках, возникло раньше. Страсти, что выразились там, еще слишком пылки. Безмятежность старости не успела наложить отпечаток на манеру автора. Факты, разговоры, встречи воспроизведены с такой точностью, какой трудно достигнуть даже спустя несколько дней или месяцев после события, а лет через двадцать пять – тридцать это становится попросту немыслимым. Но можно предположить, что кардинал в своем уединении в Коммерси, опираясь на дневниковые записи, старые заметки и официальные протоколы заседаний парламента, взялся переработать давнюю рукопись, дабы придать ей более совершенную форму.
Сам ли он из соображений щепетильности упразднил фрагменты, которых нам теперь недостает? Или мемуариста на склоне лет окружали набожные советчики, которые настояли на этих изъятиях, а то и сами после его смерти кое-что уничтожили? Мы того не знаем, но смутно чувствуем, что за кончиной этого странного и очаровательного старца кроется какая-то тайна, может статься, там даже без борьбы не обошлось. Бывает, что друзья выдающегося человека ставят его величие на службу своим амбициям. Кое-кто из бывших участников Фронды мог желать, чтобы де Рец посмертной публикацией своих «Мемуаров» в один прекрасный день оправдал бунтарские деяния их общей молодости. Другие же, быть может, напротив, хотели заставить этот мятежный дух смириться перед Господом.
Жан Шлюмберже12 написал о смерти кардинала де Реца превосходный роман «Состарившийся лев». Там он, пользуясь правом на вымысел, выдвигает ряд гипотез, которые нельзя признать историческими фактами за невозможностью подкрепить их известными документами, однако они правдоподобны и интересны. Существует блистательный анализ структуры и стилистики рукописей «Мемуаров», он принадлежит Альфонсу Фейе13 и опубликован в серии «Великие писатели» в качестве предисловия к их изданию.
Для любителей заглядывать в глубины душ человеческих история кардинала де Реца представляет целый ряд пикантных и любопытных проблем. Среди его современников не нашлось второго столь проницательного историка, ни один из них с такой ясностью не осознал, до чего разладился механизм королевской власти в годы детства и отрочества Людовика XIV, никому не удалось точнее оценить и лучше описать не только ведущих деятелей Фронды, но и политиков других эпох.
«Мемуары» изобилуют сентенциями, которые поныне так же верны, как в 1640 году, умозаключениями столь же глубокими и дерзновенными, как максимы Макиавелли14, и более впечатляющими, поскольку они конкретнее. Их там встречаешь на каждой странице: «Залог успеха тех, кто вступает в должность, – сразу поразить воображение людей поступком, который в силу обстоятельств кажется необыкновенным»; «Я оказывал почет всем, кто посещал мой дом… и таким способом снискал в глазах многих репутацию человека учтивого, а в глазах некоторых – даже смиренного»; «…никакие силы в мире не властны повредить доброму имени того, кто сохранил его в собственной среде» (здесь, естественно, подразумевается сообщество тех, кто занят одним делом: репутация депутата среди других парламентариев, врача – в глазах других врачей и т. п.); «Народ вторгся в святилище: он сорвал покров, который во веки веков должен скрывать все, что можно сказать, все, что можно подумать о праве народов и о праве королей, согласию которых ничто не содействует так, как умолчание»; «Люди подобного склада сами ничего не способны исполнить и посему готовы советовать всем».
Никогда еще столь острый ум не упражнялся в рассуждениях на политические темы и в плетении интриг. Стоит перечитать хотя бы его бесподобное описание Франции времен Мазарини. Невозможно вообразить более впечатляющую картину того, что творилось в стране на пути от анархии аристократической и вместе с тем буржуазной к абсолютизму, всю власть сосредоточившему в центре. Чем объяснить, что столь гениальная одаренность не привела этого человека к успеху, что карьера великого политика завершилась политическим крахом? Ведь Рец ничего не построил, он даже не разрушил ничего. Жаждал славы, а снискал ее лишь после кончины, да и пришел к ней окольным путем. Имел честолюбивые притязания как священнослужитель, метил высоко и как мирской деятель, но не стал ни выдающимся министром, ни великим пастырем. Почему?
Заметим, как это поразительно: три самых тонких теоретика карьеры, может статься, сильнейшие из всех честолюбцев – Рец, Макиавелли, Стендаль – потерпели поражение в своих практических начинаниях. Позволительно, чего доброго, заключить, что чрезмерно живой ум – не самое лучшее оружие в борьбе этого рода. Люди с таким темпераментом выводят из своих наблюдений прекрасные максимы общего порядка, охотно вдохновляются блистательной формулировкой, готовы применить ее на практике. Но разум способен на масштабные ошибки, и самые смелые умозаключения заводят в тупик того, кто принимает их за абсолютную истину. Интеллект успешно рождает идеи общего порядка, а действовать приходится, не иначе как исходя из конкретных обстоятельств.
(Не привести ли здесь пример рискованных максим подобного рода? Скажем, такой: «Громкие имена всегда кажутся убедительным доводом мелким душонкам». Фраза принадлежит Рецу, и она великолепна, но идея ошибочна. Ведь Ришелье и Мазарини – носители великих имен; если бы они и впрямь послужили ему ориентиром, он бы действовал успешнее. Стало быть, блестящая формулировка не обязательно верна.)
Рец усердно штудировал Плутарха, читал «Заговор Фиеско» Маскарди15. Он восхищался выдающимися людьми прошлого, стремился подражать им. Такой образ действия порой ведет к успеху, но годится лишь для натур практических, наделенных даром терпения, для тех же, кто воспринимает избранные примеры некритично, без корректировки, этот путь фатален. Будучи еще совсем юным, Рец так отвечает старому другу, упрекнувшему его за то, что он чересчур сорит деньгами: «Я прикинул: у Цезаря в мои лета долгов было вдесятеро больше». Между тем еще Паскаль заметил, что нам хочется подражать великим людям не столько в их добродетелях, сколько в слабостях. Невежда подчас имеет перед культурным человеком то преимущество, что не ищет себе образцов среди обитателей могил.
Рец, Макиавелли, Стендаль – все трое были циниками. Это расположение духа и опаснее, и обаятельнее лицемерия. Циник высказывает вслух то, о чем другие думают. Это не преступление, это ошибка. С одной стороны, он и впрямь подставляет себя под удар: лицемеру легко, прикрываясь благочестивыми речами, разить своего незащищенного противника. С другой – и это куда серьезнее, – циник лишает себя права на подлинную добродетель, он вынужден довольствоваться половинчатой добродетелью, которая для него не что иное, как искренность, вызывающая мало интереса. Вот почему он редко достигает успеха, и это справедливо.
Подлинный честолюбец не ведает того отстраненного интереса к драме бытия, что присущ Стендалю или Гонди. Для них жизнь – театр. Они не в состоянии отрешиться от этой метафоры. Рец, описывая конклав, говорит: «Все актеры отлично сыграли свои роли, театр был полон, действие не слишком разнообразно, но пьеса была хороша, тем более что отличалась простотой…» Попробуйте сравнить это умонастроение с восприятием человека, которого этот же конклав изберет папой, – кардинала Киджи16, который «проводил все время в своей келье, отказываясь даже принимать посетителей». Истина в том, что приходится выбирать между радостями жизни и успехом. Сам Рец в старости прилежно отдавался труду, он больше не жил – он писал. Потому-то мы все еще восторгаемся им.
В свои цветущие годы он избрал жребий искателя приключений. Сент-Бёв характеризует его как прирожденного авантюриста, любившего действие ради действия, а не во имя результата. С таким темпераментом не уподобишься Мазарини, зато можно, пожалуй, стать человеком гораздо более обаятельным. «Он внушал любовь, потому что сам любил и умел любить». Эта фраза прозвучала в надгробной речи, посвященной кардиналу де Рецу. Печаль его друзей, по-видимому, доказывает, что это правда. Такие неугомонные путаники зачастую очень симпатичны хотя бы тем, что «не ведают зависти и жадности», и люди охотно платят приязнью тем, кто тревожит монотонное течение их мелочно упорядоченной жизни, привнося в нее освежающее волнение и малую толику возвышенного.
С натяжкой можно назвать де Реца политиком. Мазарини, не в пример ему, был воплощением порядка и мира, необходимого королевству. Зато невозможно не признать, что он был одним из величайших писателей Франции. Хотя, к досаде некоторых особенно ревностных почитателей, он не снискал литературной известности, равной той, что выпала на долю Сен-Симона17, его сближает с последним доходящее до излишества богатство стиля – особенность человека, который много повидал и, следовательно, готов поведать о многом. Будучи ближе к XVI веку, чем Сен-Симон, он сохраняет унаследованную от Монтеня18 вольную пышность стиля, красочность, изящный строй речи. Примеры тому находим на любой странице: «Мое преступление… было тем тяжелее, что я изо всех сил усугублял его… широкой раздачей милостыни, щедростью, зачастую потаенной, но вызывавшей порой отзыв тем более громкий». В своих инвективах, направленных против людей, которых он не жаловал, Рец достигал сен-симоновской яростной силы: «Герцог де Бофор…19 вбил себе в голову, будто станет править королевством, на что был способен менее, нежели его лакей. Епископ Бовезский20, самый глупый из всех известных вам глупцов, сделался первым министром…» А вот и про Мазарини: «На ступенях трона, откуда суровый и грозный Ришелье не столько правил смертными, сколько их сокрушал, появился преемник его, кроткий, благодушный, который ничего не желал, был в отчаянии, что его кардинальский сан не позволяет ему унизиться перед всеми так, как он того хотел бы, и появлялся на улицах с двумя скромными лакеями на запятках своей кареты».
Сочная сжатость, четкость этих фраз, достойных Тацита, поистине великолепна: «Кардинал де Ришелье любил остроты, но не терпел, когда они были обращены против него»; «При Карле IX и Генрихе III двор так устал от смуты, что все, не бывшее покорностью, почитал бунтовщичеством»; «…на улицах не видно ни души, все успокоилось, и завтра можно будет вздернуть кого угодно».
Рецу, как и Сен-Симону, свойственно качество, которое долгое время делало французский язык таким же прекрасным, как латынь: некоторая затемненность и вместе с тем прозрачность. Это следствие предельной насыщенности фраз и отказа от повторения слов, без которого читатель с живым умом легко обходится: и так понятно, о чем речь. Позже, начиная с XVII века, никто уже не осмеливался подменять местоимением слово, о котором приходится догадываться. Но Рец еще решается писать: «Вас не должно удивить, как (век спустя дописали бы: „удивляет“) всех прочих, что герцога де Бофора заключили в тюрьму при дворе, где из темниц только-только вышли (он не уточняет: „на свободу“) все без изъятия».
Пруст в своих заметках «Пастиши и смесь», завершающих его книгу «Против Сент-Бёва», замечает, что очарование, которое он находит в некоторых строках Расина, именно в том и состоит, что там умышленно нарушены привычные синтаксические связи. Самые знаменитые расиновские стихи оттого и стяжали славу, что пленяют этакой фамильярной непринужденностью фраз, переброшенных, словно дерзостный мостик, меж двух сладостно гармоничных берегов: «Ведь даже и сейчас, когда так низко, гадко // Ты поступил со мной, я – та же, что была».
У Реца дерзостей такого рода полным-полно. Вскормленный Тацитом, ступивший на стезю сочинительства на полпути между Монтенем и Сен-Симоном, этот кардинал-рыцарь остается для нас великим французским прозаиком.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.