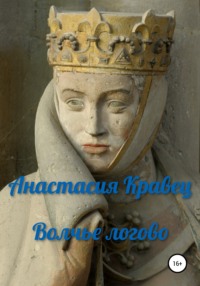Buch lesen: "Волчье логово"
Ненавистные установления порождают ненависть.
Э. Т. А. Гофман «Майорат»
Этот дворец творит ужасные вещи с людьми. Эта цитадель обычаев, традиций, обрядов и ритуалов сводит меня с ума.
Индийский фильм «Эклавия. Княжеский страж»
Предисловие
Закончив эту странную фантазию, я почувствовала необходимость вкратце пояснить ее замысел.
Годы моей ранней юности проходили в трепетном увлечении литературой эпохи романтизма. В ту счастливую пору меня всецело поглощали драматические страсти и ужасы, заключенные в ней. Но со временем во мне проснулся глубокий интерес к той атмосфере, в которой возникла культура романтизма, и к тем сложным механизмам, с помощью которых она создавалась.
Совсем недавно меня посетила дерзкая и забавная мысль написать небольшой роман в духе и по образцу волшебных произведений той эпохи. Все знают, какое значительное место занимают в нашей современной культуре неоготические мотивы. Сложно представить себе человека, который не слышал бы о вампирских историях, о всевозможной нечисти из фэнтези и прочих милых ужасах, которыми полна литература наших дней. Но мало кто задумывался над тем, что все эти причудливые мотивы берут начало именно в изящной, наивной и пугающей культуре первой половины XIX века…
Правда, некоторые шедевры той эпохи популярны и в наше время. Стоит вспомнить довольно распространенное увлечение «Собором Парижской богоматери» или «Грозовым перевалом». Но сколько еще остается удивительных произведений романтизма, которые почти или совершенно неизвестны современному читателю. Но даже если эти книги до сих пор читают, культурный контекст, в котором они существовали и который дает ключ к более полному их пониманию, безвозвратно утерян…
И вот мне страстно захотелось создать историю, содержащую в себе бесчисленное пересечение мотивов, сюжетов, персонажей и смыслов романтизма.
Мой роман построен по образцу произведений того времени. В тексте множество намеков на предыдущие сюжеты и персонажей. Этот метод виртуозно использовали и сами романтики. Когда Гюго описывает келью Клода Фролло, он напоминает нам о гётевском Фаусте. Когда Фролло мечтает о Восточной империи, не является ли это тонким намеком на дерзкие планы Бриана де Буагильбера из «Айвенго»?.. Не имея таланта великих мастеров, я все же в данном случае следую их методу. Почти в каждой ситуации или фразе содержится напоминание о чем-то предыдущем, уже описанном романтиками. Но, в отличие от них, я не имею радужной надежды, что моим читателям (если они вообще найдутся) так хорошо знакома вся эта старая и полузабытая литература. Поэтому, для простоты создания ассоциаций, главы в книге снабжены эпиграфами из разных произведений. Естественно, эта идея тоже принадлежит не мне. Она принадлежит Вальтеру Скотту. Как известно, подражание этому прославленному писателю приобрело повальный характер среди европейских романтиков. Стоит вспомнить хотя бы «Сен-Мара» Альфреда де Виньи или «Гана Исландца» Виктора Гюго. Однако, в системе эпиграфов, используемой мной, есть и некоторые отличия от традиции. В ней можно встретить цитаты не только из романтических произведений, но и из литературы XX века и даже из мюзиклов и фильмов. Эти изменения легко объяснить. Я все-таки живу почти два века спустя после романтиков.
В произведениях эпохи романтизма существовало как бы два фона. Один воссоздавал события далеких, красочных и экзотичных эпох, другой – пытался через эту блестящую завесу прокричать о драмах человека XIX столетия… Как-то мне встретился глубокий риторический вопрос: не являются ли страдания Клода Фролло в большей степени страданиями влюбленного XIX века, чем драмами средневекового священника?.. Я думаю, в этом есть большая доля истины.
Средневековье, описанное романтиками, было не совсем таким, каким представляем его мы. Это тоже создавало определенные трудности для воплощения…
В моем романе три фона. Самый поверхностный из них средневековый. Создавая его, я должна была учитывать в первую очередь не современные представления о той эпохе, а то, какими видели те далекие времена романтики. Но этот фон как раз наименее важен. Он является лишь формой. Второй фон – воспроизведение представлений собственно XIX века с его роковыми персонажами, безумными страстями и бесконечными психологическими самоанализами. На этом можно было бы исчерпать тему, но вышло иначе… Я живу сегодня, поэтому произведение неизбежно должно было наполниться драматическим третьим фоном, который будет кричать о проблемах нашей жизни сквозь раскрашенные маски ушедших эпох… Об этом я не скажу больше ничего. Драмы наших дней читатель без труда сможет узнать сам…
Единственное, что, пожалуй, стоит пояснить: в споре культур, представленных в книге, я остаюсь беспристрастной. Я не придерживаюсь никаких религиозных взглядов (хотя у меня есть собственная система ценностей, в какой-то мере заменяющая их), и категории той или иной религии зачастую написаны с большой буквы только, чтобы показать их место в сознании моих персонажей, но не в сознании автора. На самом деле, спор и противостояние культур не приносят никакого положительного результата. Прошу помнить, что я не веду никаких теологических дискуссий. Это не имеет для меня значения. Значение имеет описанное мной поведение людей.
Й. Хёйзинга писал, что культура возникает в тесной связи с игровым элементом. Он не верил в то, что авторы готических романов могли быть вполне серьезны, описывая свои наивные ужасы. Я тоже не верю в это.
Несомненно, мрачный антураж готической и романтической литературы в наши дни способен вызвать скорее снисходительные улыбки и веселый смех, чем настоящий страх. Все эти окровавленные кинжалы, виселицы, сверкающие взоры и роковые проклятья стали не больше, чем безнадежно устаревшим и покрытым пылью забвения литературным хламом. Но кто из нас хотя бы однажды не испытывал подлинной боли, читая о тяжелом безумии Франца, мучительной пытке Эсмеральды, бредовых видениях архидьякона или неприкаянных призраках Грозового перевала?.. Да, они оставили нам нечто большее, чем все эти наивные ужасы сырых подземелий и кошмарных снов. Нечто ранящее и настоящее… Быть может, что-то такое, чего современная литература оставить не сможет…
Моя история начиналась как забавная и не имеющая большого значения литературная игра с символами и смыслами. Но с какого-то момента все пошло не так… Я задумалась о серьезных и тяжелых вопросах, и страницы сами собой наполнились живой и самой настоящей болью…
15 августа 2015 г.
I. Путники
Грозовой Перевал – так именуется жилище мистера Хитклифа. Эпитет «грозовой» указывает на те атмосферные явления, от ярости которых дом, стоя на юру, нисколько не защищен в непогоду. Впрочем, здесь, на высоте, должно быть и во всякое время изрядно прохватывает ветром. О силе норда, овевающего взморье, можно судить по чрезмерному наклону малорослых елей подле дома и по череде чахлого терновника, ветви которого тянутся все в одну сторону, словно выпрашивая милостыню у солнца.
Эмили Бронте «Грозовой Перевал»
Мы в Трансильвании, а Трансильвания – это не Англия. Наши обычаи не те, что у вас, и многое здесь вам покажется странным.
Брэм Стокер «Дракула»
Где-то на окраине графства Эно, которое фламандцы называли Геннегау, раскинулась обширная, серая равнина. Ее пересекала длинная извилистая дорога, больше похожая на заброшенную тропинку. По этой дороге, убегавшей в сторону епископства Льежского, одиноко брели два путника. Используя выражения хронистов того времени, можно сказать, что это происходило в год Милости 1323, через две или три недели после Дня Всех Святых.
Бледный осенний день медленно догорал. Не успело солнце закатиться, как его алые лучи уже скрылись за громадами тяжелых туч, набежавших с севера. Тучи сталкивались, разбегались, принимая один за другим все более причудливые образы: то рыцаря с развевающимся на ветру плюмажем, то руин старого покинутого замка, то корабля, гонимого бурными волнами… Казалось, будто они стремительно пожирают светлую часть небосвода. Поднялся холодный и резкий ветер, который больно хлестал в лицо запоздалым путешественникам, развевал их плащи и норовил сбросить капюшоны.
В стремительно сгущающихся сумерках место казалось еще более диким и пустынным, чем было на самом деле. Лишь черные и одинокие силуэты голых деревьев слабо вырисовывались на горизонте.
Удивительно, но, несмотря на непогоду и на поздний час, у пешеходов не было ни фонаря, ни другого светильника, лучи которого могли бы разогнать мглу и ночные страхи. Они шли медленно, как будто вовсе и неспешили поскорей добраться до цели своего пути.
Человек, который шел впереди, и, должно быть, являлся проводником, был уже немолод. Он был облачен в широкую черную монашескую сутану, подол которой щедро украшала свежая дорожная грязь, и в теплый плащ из грубой шерсти. Крепкая фигура, грубоватые, но мягкие черты лица и стоическое презрение к трудностям пути выдавали в нем хорошее здоровье и крестьянское происхождение.
Второй путешественник выглядел совсем еще юным. Это впечатление усиливал его тонкий и гибкий стан, немного угловатые движения, а также задумчивое и даже испуганное выражение открытого и приятного лица. Плащ юноши, сшитый из более дорогой и яркой ткани, чем у монаха, красивые кожаные башмаки, сильно пострадавшие от сырости, изящный темно-серый костюм и дорожный узелок в его руке, наводили на мысль, что он приехал издалека. Возможно, даже из города. В легкой одежде он сильно страдал от холода и пронизывающего ветра, и пытался согреть дыханием свои тонкие, дрожащие пальцы.
Но становилось все темнее и темнее, огромные тучи уже заволокли все небо, порывы ветра едва не сбивали с ног, а никакого жилья по-прежнему не было видно…
Наконец, не в силах больше терпеть гнетущее молчание, молодой горожанин крикнул своему спутнику:
– Святой брат, скоро ли мы доберемся до вашего монастыря?
– Мы придем туда к ночи, – ответил монах, не проявляя ни малейших признаков беспокойства.
Вряд ли такой ответ мог развеять тягостные сомнения собеседника.
– А сейчас разве день?
– Ночью мы уже будем в обители, – спокойно и невозмутимо повторил достойный брат.
Поняв, что ему ничего не удастся добиться от своего странного проводника, юноша решил продолжать путь молча. Внезапно до его напряженного слуха долетел далекий, пугающий звук, совсем непохожий на шум непогоды. Он вздрогнул и поспешил догнать монаха.
– Что это? – изменившимся голосом спросил горожанин, и в его больших глазах заплясали искорки страха. – Неужели волки? Они здесь водятся?
– Водятся, – кивнул монах. – Отчего бы им не водится? Прошлой зимой они загрызли кобылу сеньора де Кистеля, которая пала на дороге…
– Когда вы столь любезно встретили меня, чтобы проводить до обители, то сказали, что здесь не ездят на лошадях… А как же этот сеньор?
– То сеньоры. Святые братья не ездят. Они всюду ходят пешком.
– И никто не боится волков в такой холод и в столь поздний час? – удивился молодой человек.
– Здесь незачем бояться волков, – со зловещим спокойствием ответил святой брат.
– Вы хотите сказать, что в ваших краях встречается нечто более страшное, чем дикие звери? – медленно произнес горожанин. Темнота, усталость, безлюдность местности и потустороннее спокойствие его спутника начинали производить на него самое тяжелое и мрачное впечатление.
– Да. По правде сказать, место тут проклятущее, – чистосердечно признался брат. – Вы еще всяких чудес сможете навидаться…
Последнее обещание монаха совсем сломило мужество юноши. Он уже давно проклял в душе свою неудачную поездку. И зачем только его дяде, графскому бальи, вздумалось послать его в это глухое и неведомое место? Молодому человеку и раньше случалось пускаться в разные путешествия по долгу службы, но никогда еще жестокая судьба не забрасывала его в такой мрачный угол, навеки забытый Господом и покинутый людьми…
Он родился и вырос в городе, он привык к шумному гулу толпы на тесных улочках, к веселым студенческим забавам, к солнечным лучам и бою городских часов.
Однажды, когда он был почти еще мальчиком, дядя взял его с собой на пышную праздничную церемонию. Графский двор в Валансьенне блистал великолепными и фантастическими красками, точно далекая и манящая звездная пыль… Наряды дам пленяли невиданной, пламенеющей красотой. Когда они медленно и грациозно кружились в танце, то казались похожими на яркие осенние листья, которые злой ветер срывает с тонких, беззащитных ветвей…
Что мог он знать о далеких деревнях во владениях своевольных сеньоров? О неведомых краях, границы которых терялись в темных, густых лесах, где тревожно шелестела листва? И о тех странных людях, которые живут вдали от городского шума: встают со звоном колокола, а не с боем башенных часов, проводят свои дни в жаркой охоте или бесконечных распрях… О тех людях, которые взглянув в окно, вместо моря островерхих городских крыш, видят бескрайние, покрытые сверкающим снегом равнины…
Юноша провел несколько лет в обществе повес-студентов. Ему был присущ здравый смысл и скептицизм, распространенный в среде горожан. Он охотно смеялся над многими предрассудками своего наивного и невежественного века. Но смеяться над ними было весело под защитой городских стен, освещенных лучами полуденного солнца. Здесь же, поздним вечером, на заброшенной и размытой недавним дождем дороге, без света, вдали от людей, в обществе единственного монаха, делающего зловещие пророчества, воображение невольно начинали тревожить мрачные образы из старинных легенд о нечисти…
Всем хорошо известно, что ночные часы – время, отданное во власть нечистой силе. Только безумец осмелится в ночную пору переступить порог своего дома, а уж тем более, собраться в дальний путь… Добрый же христианин, которому дорога его бессмертная душа, никогда этого не сделает. Страшно представить, сколько врагов рода человеческого бродит в поздний час по сумеречным лесам и опустевшим дорогам! А вдруг это не волки воют в неведомой дали, а оборотни рыщут в поисках добычи… И, быть может, не корявые ветви деревьев виднеются на горизонте, а костлявые руки грешников, погибших не своей смертью…
От безрадостных размышлений горожанина вскоре отвлек вид какой-то мрачной громады, очертания которой смутно вырисовывались в непроглядной тьме.
– Это ваша обитель? – живо воскликнул юноша, с воодушевлением ожидая скорого конца своего затянувшегося странствия.
– Куда там, – отозвался святой брат. – Это замок графа.
– Какого графа?
– Здесь всего один граф.
Раздосадованный молодой человек в душе поклялся не задавать своему спутнику больше ни единого вопроса, ибо его ответы скорее запутывали, чем вносили хоть какую-то ясность в происходящее, и только напрасно разжигали ночные страхи.
После того, как они миновали замок таинственного «графа», дорога совсем исчезла, и теперь приходилось пробираться по липкой грязи, то и дело рискуя провалиться в глубокую лужу. Впрочем, туфли городского гостя были уже настолько мокрыми, что это все равно не имело бы никакого значения. А судя по непоколебимому спокойствию монаха, его не напугала бы и необходимость пройти по воде босиком, следуя примеру святого Петра, идущего навстречу Спасителю…
Глядя себе под ноги, юноша на этот раз даже не заметил, как перед ним выросло еще одно здание. Небольшое и аккуратное, оно было столь хрупким и изящным, что, казалось, парило над землей, точно легкое, воздушное облако. Где-то наверху, под широкой черепичной крышей, смутными, дрожащими бликами поблескивали витражи большого, круглого окна-розы. С двух сторон главное здание обрамляли маленькие, островерхие башенки, в ночных сумерках напоминавшие рога или заячьи уши. Дальше, в черных сгустках тьмы, терялся целый лес изящных, устремленных в небеса шпилей.
Монах обошел главное здание и громко и настойчиво постучал в какую-то боковую дверь. Никто не спешил отозваться на стук, и ему пришлось не раз повторить свою попытку, прежде, чем она увенчалась успехом.
За дверью послышались торопливые шаги, и чей-то тихий голос задал вопрос, которого молодой человек не расслышал.
– Брат Ватье и тот мэтр, – ответил монах.
Под «тем мэтром», очевидно, имелся в виду городской гость.
Дверь осторожно отворилась, и из щели вырвался яркий луч, который, больно резнув по глазам, привыкшим к окружающему мраку, заставил гостя на мгновенье зажмуриться. Когда он снова открыл глаза, то увидел еще одну фигуру в монашеской сутане, освещенную неверным красноватым светом фонаря.
– Входите, – пригласил второй монах. – Время позднее.
Молодой горожанин медленно переступил порог. Он был очень рад окончанию своего мучительного путешествия. Но душу не покидали сомнения… Что ждет его в незнакомой обители? Желанный приют и отдых? Или зловещие «чудеса», обещанные его неразговорчивым проводником?..
II. В монастыре
Когда я с ним познакомился, он был уже в преклонном возрасте; белизна волос выдавала его годы, но в глазах еще сверкал огонек молодости, а приветливая усмешка, блуждавшая у него на устах, усиливала общее впечатление уравновешенности и покоя. Изящество, каким отличалась его речь, было также свойственно его походке и жестам, и даже обычно мешковатое монашеское одеяние отлично прилегало к его статной фигуре.
Э. Т. А. Гофман «Эликсиры Сатаны»
Внутри собора было уже пусто и сумрачно. Боковые приделы заволокло тьмой, а лампады мерцали как звезды, – так глубок был мрак, окутывавший своды. Лишь большая розетка фасада, разноцветные стекла которой купались в лучах заката, искрилась в темноте, словно груда алмазов, отбрасывая свой ослепительный спектр на другой конец нефа.
Виктор Гюго «Собор Парижской богоматери»
При добром сердце твое лицо, мой мальчик, стало бы красивым, – продолжала я, – даже если бы ты был черней арапа; а при злом сердце самое красивое лицо становится хуже, чем безобразным.
Эмили Бронте «Грозовой перевал»
Не говоря ни слова, человек с фонарем провел гостя через темный и узкий коридор, миновав который, они оказались в просторной, холодной и слабо освещенной зале. Длинный деревянный стол, на который упал взгляд юноши, наводил на мысль, что это была трапезная монастыря. Колеблющееся пламя фонаря осветило еще два черных монашеских силуэта. Высокие и величественные своды залы продолжали тонуть во тьме.
Вопреки опасениям горожанина, вызванным таинственностью места и поздним временем, он сразу же услышал обращенные к нему приветливые слова, произнесенные мягким и вежливым тоном:
– Вот наконец и вы, дорогой мэтр. А мы уже начали беспокоиться, что вас так долго нет. На дворе непогода и ночь… Брат Ватье, – обратился говоривший к монаху-проводнику, – собирается дождь?
– Нет, – коротко ответил тот.
– Как нет? – вмешался человек с фонарем. – Я видел большие тучи, когда открывал вам дверь…
– Нет, – упрямо повторил брат Ватье. – Дождя не будет. Будет снег.
Это глубокомысленное замечание было оставлено без ответа.
Тем временем, монах, начавший разговор с гостем, подошел к нему, продолжая свои расспросы:
– Вы проделали долгий путь, верно? Вы, должно быть, очень устали? Боже мой, да вы просто дрожите от холода, бедное дитя!
С этими словами, он заботливо снял с горожанина капюшон и подвел его к очагу, который юноша заметил не сразу, так как огонь в нем едва тлел, тихо пожирая остатки обгоревших дров. Красные, сверкающие искры одна за другой медленно срывались в золу.
Только теперь стало ясно, что, несмотря на свою тонкую и хрупкую фигуру, приезжий совсем не так юн, как это казалось на первый взгляд. Ему было не меньше двадцати трех лет, если не все двадцать пять.
– Простите, я должен был уже давно представиться. Меня зовут Жиль дель Манж. Я послан в вашу священную обитель господином Пьером дель Манжем, графским бальи, чтобы…
– Мы знаем, кто вы, и с какой целью посланы к нам, – перебил его человек, державший фонарь, и в тоне его голоса приезжему послышалось что-то странное…
Немного согревшись и успокоившись, Жиль, в свою очередь, получил возможность как следует рассмотреть людей, в общество которых его забросила судьба.
Монах, который столь любезно заговорил с ним, был уже стар. Ему, вероятно, было около шестидесяти лет. Однако, умное лицо этого человека все еще сохраняло следы былой утонченной и изысканной красоты. Живые темные глаза смотрели на собеседника с искренним и неподдельным интересом. Тонкие губы слегка улыбались. Правильные, приятные черты не портили даже морщины. Волосы, некогда темные, теперь почти полностью поседели. В отличие от остальных монахов, на которых одежда болталась как придется, на старике сутана сидела с безупречным, едва ли не придворным, изяществом. Это было особенно удивительно, учитывая, в каком глухом и диком месте находился монастырь. Во всей его фигуре чувствовалась почти юношеская гибкость и стройность.
По любезным и вежливым манерам, по изяществу одежды и по преклонному возрасту стоявшего рядом с ним монаха, Жиль пришел к выводу, что, наверняка, видит перед собой настоятеля.
В лице брата, державшего в руке фонарь, не было ничего запоминающегося или необычного. Небольшие, спокойные глаза под густыми бровями, широкий лоб, плотно сжатые массивные челюсти, немного поредевшие темно-русые волосы и печать легкой усталости и равнодушия на лице. Ладони у него были широкие, а на кончиках пальцев виднелись следы свежих чернил. Из-за своей отстраненности и равнодушия, а возможно, и из-за чернильных пятен на руках, человек этот производил впечатление скептичного и сосредоточенного мыслителя. На вид ему можно было дать лет пятьдесят-пятьдесят пять. Но, несмотря на пожилой возраст, в нем, как и в настоятеле, казалось, еще не угасла воля к действию и жизненные силы.
Третий монах, хотя и откинул скрывавший его лицо глубокий капюшон, до сих пор не произнес ни слова и не вышел из тени. Его высокая, худая фигура казалась еще более вытянутой и бесплотной при слабом свете затухающего очага. Несомненно, он был моложе и настоятеля, и брата с фонарем, но в нем совершенно не чувствовалось их живости и силы. Скрестив руки на груди, и замерев в странной неподвижности, монах смотрел куда-то поверх голов всех собравшихся в зале. В его светло-голубых глазах застыл неведомый и нездешний покой. Бледное лицо святого брата можно было бы назвать красивым, если бы не впалые щеки и не чрезмерная худоба, портившая эти правильные и по-северному холодные черты, хранившие на себе печать неумолимой суровости и какой-то недоступной остальным смертным благодати. Прямые, светлые волосы придавали его лицу еще большую прозрачность.
Вид этого неподвижного, погруженного в созерцание монаха почему-то наполнил душу Жиля робостью и легким страхом. Только одна вещь не вязалась с его задумчивостью и благочестием. Широкие рукава сутаны были испачканы чем-то вроде цветной краски…
Пока Жиль, с любопытством молодого человека и горожанина, разглядывал обитателей монастыря, настоятель снова обратился к нему:
– Я полагаю, мы зря теряем время. Вы, конечно, устали после долгой и утомительной дороги. И я был бы очень плохим хозяином, если бы тотчас не предложил вам отдохнуть.
– Святой отец очень любезен, – с легким поклоном ответил Жиль. – Признаюсь, я не отказался бы от отдыха. Вечер был таким холодным… И этот ужасный ветер…
Молодой человек не отказался бы и от ужина, но, видимо, так далеко любезность настоятеля не простиралась.
– Брат Ватье, – бросил святой отец проводнику, – вы закрыли ворота на ночь?
– Нет, – безмятежно отвечал тот.
– Что значит нет?! Почему вы их не закрыли?!
– Вы мне не приказывали.
– Милосердный Господь! – настоятель всплеснул руками. – Да неужели вам на все нужны мои приказания?! Где это видано, оставлять ночью ворота открытыми! Идите и закройте их немедленно.
Брат Ватье повиновался, нисколько не прибавив шагу.
– А где брат Жозеф? – поинтересовался настоятель, оборачиваясь и ища кого-то взглядом. – Я же велел прийти всем… Брат Ульфар, вам известно, где он может быть?
– Когда я покидал церковь, то оставил его там, – произнес высокий монах тихим, ровным и бесцветным голосом. Он говорил с сильным фламандским акцентом.
– Мне проводить вас, отец Франсуа? – вмешался человек с фонарем.
– Нет, благодарю вас, брат Колен, в этом нет необходимости. Дайте мне фонарь. Я сам отведу нашего гостя. Отправляйтесь в свои кельи.
Властным жестом настоятель взял протянутый ему светильник, пламя которого становилось все бледнее и слабее, и пригласил Жиля следовать за ним.
Выходя из залы, молодой человек только успел заметить, как величественная фигура брата Ульфара выплыла в другую дверь. Если бы не тихий шорох сутаны, его можно было бы принять за призрака, ибо шаги его были неслышны и незаметны…
Брат Колен, оставшись без фонаря, продолжал в глубокой задумчивости стоять у двери.
Отец Франсуа шел столь быстрым и решительным шагом, что уставший Жиль едва поспевал за ним. Когда он начинал отставать, маяком ему служил красный маленький огонек, во тьме коридоров похожий на крохотную, догорающую звезду…
Они миновали одну залу и свернули в другую. Во всем большом и холодном здании царили мрак и пустота. Быстрые шаги настоятеля гулко отдавались под старинными сводами, пробуждая странное, как будто разбивающееся на тысячу осколков, смутное эхо, которое постепенно замирало в самых отдаленных и таинственных уголках святой обители…
Наконец отец Франсуа толкнул какую-то тяжелую, резную дверь, и они вошли в пустую монастырскую церковь.
Жиль застыл пораженный. Ему никогда не доводилось бывать в церкви ночью. Хотя на дворе стояла тьма, здесь морозный воздух был наполнен удивительным синевато-лиловым легким светом, который парил вокруг вошедших, подобно инею, падающему с неподвижных ветвей в безветренную зимнюю ночь…
У Жиля невольно появилось искушение поймать этот дивный свет в ладонь. И будь он один, непременно попробовал бы это сделать.
Где-то в глубине церкви голубоватые тусклые искры пробегали по узорчатым, цветным витражам, вызывая в памяти блуждающие болотные огоньки, манящие запоздалого путника…
Откуда-то со стороны двери в залу долетали неистовые порывы ветра. Должно быть, одно из окон было разбито.
Вдалеке переливался золотыми бликами и вспыхивал багряными отсветами великолепный алтарь. Свечи, стоявшие на нем, все до единой, были безжалостно потушены дуновениями злого ветра…
– Брат Жозеф, вы здесь? – крикнул отец Франсуа.
Никакого ответа.
И, тем не менее, церковь не была совершенно безлюдна. Под одним из окон на коленях стояла человеческая фигура, слабо освещенная мерцающим светом единственной, догорающей свечи.
Сначала Жилю показалось, что этот человек молится. Но когда они подошли ближе, он понял, что ошибся. Одной рукой коленопреклоненный монах прикрывал от ветра угасающую свечу, а другой – что-то судорожно и неистово чертил на лежавшем рядом желтом листе бумаги, низко-низко склонив над ним голову… Казалось, он даже не слышал шагов и не видел людей, пришедших нарушить его добровольное одиночество.
Только при этих словах настоятеля, прозвучавших так близко от него, монах поднял голову, и Жиль в ужасе отшатнулся, слабо вскрикнув от удивления и неожиданности. Все происходящее приобрело черты бессмысленного, жестокого, затянувшегося кошмара!
Прыгающий язычок пламени осветил своим неровным светом смуглое лицо язычника, неверного, сарацина!
Это было настолько страшно и невероятно, что Жиль не мог сделать ни единого шага, не мог произнести ни одного слова…
Прямо на него смотрели черные, сверкающие глаза сарацина, полные мрачного и адского, но какого-то вдохновенного и яркого огня. Ноздри острого, хищного носа нервно и взволнованно трепетали от таинственного ветра. Изогнутые, отливающие синевой, брови и настороженно сжатые сухие губы придавали его лицу серьезное и грозное выражение. На высокий лоб, прорезанный тонкой морщинкой, появившейся от частых и невеселых раздумий, в беспорядке падали черные, мокрые от пота, волосы.
Сложно сказать, сколько лет было этому чужестранцу. Возможно, немногим больше тридцати. Но замкнутое, отчужденное, недоброе выражение лица, больше подходящее преследуемому зверю, чем человеку, делало его резкие и острые черты старше и печальнее…
Тяжеловатой фигуре сарацина, скрытой под складками широкой черной сутаны, скорее были присущи сила и крепость, чем гибкость, изящество и стройность.
Его рукава тоже были перепачканы краской, как у брата Ульфара.
Неверный в благочестивом и добром краю, в христианской церкви, да еще и облаченный в монашеское одеяние! Поистине, что могло быть нелепее и невероятнее этого бессмысленного и хаотичного кошмара!
Однако, придя в себя от первого потрясения, Жиль очень скоро пожалел о вырвавшемся у него неосторожном восклицании. Ибо после него лицо сарацина стало еще угрюмее и суровее, если такое вообще было возможно.
– О, я должен был вас предупредить.., – тихо произнес отец Франсуа, глядя на растерянного гостя.
Затем он обратился к неверному:
– Брат Жозеф, это племянник бальи. Мы решили поселить его в вашей келье на то время, пока он будет пребывать в нашей обители.
Но до какой же невообразимой степени возросло удивление горожанина, когда сарацин ответил старому монаху на чистейшем валлонском наречии, ничем не отличавшемся от того, на котором говорил сам настоятель!
– Прекрасно, святой отец! И с чего я удостоился этой великой чести? Неужели люди никогда не оставят меня в покое! О, я желал бы, чтобы они навсегда забыли о моем существовании и оставили меня наедине с моими холодными стеклами…
Его низкий голос звучал резко, насмешливо и неприятно.
После минутной задумчивости брат Жозеф продолжал:
– А почему нельзя было поселить достойного гостя у брата Ульфара или у брата Колена?
– Вы же знаете, – немного смутившись отвечал настоятель, – брат Колен очень занят своими бумагами, хозяйством… А брат Ульфар… он ревностно предается молитвам. Нам всем следовало бы по мере сил подражать его благочестивому примеру…
– Вы правы, – холодно прервал его сарацин. – Должно быть, в нашей святой обители бездельничаю только я один…
Он стремительно и резко поднялся с колен, и, бросив на побледневшего Жиля презрительный взгляд, коротко сказал:
– Идемте.
Через несколько минут племянник бальи уже находился в маленькой, неуютной келье, тускло освещенной голубоватым лунным светом, который тихо струился из крохотного окошка под самым потолком. Низкий стол, стоявший в келье, был завален ворохом бумаги. На листах чернилами были начерчены какие-то причудливые, угловатые рисунки.
Брат Колен принес еще одну жесткую монастырскую постель, на которую Жиль упал, изнемогая от усталости.