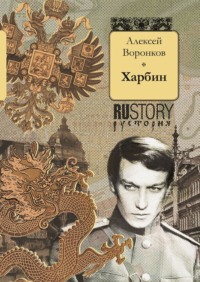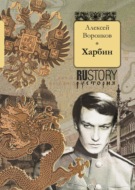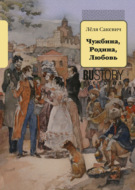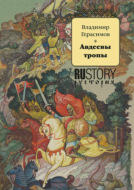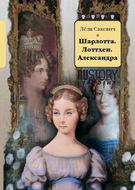Buch lesen: "Харбин"
* * *
© Издательство «РуДа», 2024
© А. А. Воронков, наследники, 2024
© Д. С. Селевёрстов, художественное оформление, 2024
* * *
Николя Лисенко, моему парижскому приятелю и бывшему «харбинцу»
И вот я институтка, я дочь камергера,
И преданный сраму отцовский рубин.
И нет больше в жизни ни смысла, ни цели…
Привет, эмигранты, свободный Харбин!
(Из старой белоэмигрантской песни «Институтка»)
Высокое унизится,
А униженное возвысится.
Пророк Иеремия
Как чума, тревога бродит,
Гул лихих годин…
Рок черту свою проводит
Близ тебя, Харбин…
Арсений Несмелов
Часть первая
Человек из Сорбонны
(Вместо предисловия)
1
Мишель впервые появился в нашем городе где-то в начале девяностых ушедшего от нас века, когда погрязшая в бесконечных политических распрях Россия судорожно пыталась выкарабкаться из постперестроечной разрухи.
С ним мы познакомились на одном из мероприятий с участием общественных организаций города, где я представлял одно из местных печатных изданий и где, как обычно, шёл горячий спор между непримиримыми политическими противниками относительно будущего страны. Кто-то из знакомых журналистов тогда сказал мне, что в зале присутствует настоящий француз, который прибыл в Благовещенск по каким-то своим делам и теперь проявляет интерес ко всему, начиная от экономических возможностей города и кончая политическими симпатиями его граждан. Мне захотелось посмотреть на него – ведь это, насколько я знал, был первый потомок древних галлов, оказавшийся после октября семнадцатого в наших краях. До этого никто из его соплеменников, за исключением жены основателя города, графа Муравьёва, Катрин, не бывал на амурских берегах.
Впрочем, французы в этом смысле были не исключением. До последнего времени сюда не казали нос ни немцы, ни англичане, ни испанцы, ни тем более американцы, потому как места это пограничные, а сам Благовещенск многие годы являлся закрытым городом, куда не то что чужие, – свои, у которых не было специальной отметки в паспорте, не могли приехать без разрешительной процедуры. Вот в такой секретности и жили, пока не началась горбачёвская перестройка, внёсшая некоторые послабления в жизнь пограничных территорий. Первого европейца (о китайцах речь не идёт – те с приходом в Кремль Горби, пользуясь близким соседством, тут же заполонили наши улицы) я встретил в городе ещё в конце восьмидесятых. Им был восточный немец Йохим Янке, который приехал по приглашению друзей вместе с женой Мартой и шестнадцатилетней дочкой Анитой. Потом был какой-то испанец, был учёный из Норвегии, корреспондент американского географического журнала, посетивший знаменитый Муравьёвский заповедник редких птиц… Был кто-то из Израиля, даже один датчанин на мотоцикле, а вот французом Мишель оказался первым.
Сейчас мне уже трудно вспомнить, каким образом я «подкатил» к нему. Однако помню, что после перерыва я возвращался в зал бывшего Дома политпросвещения, отданного в начале реформ Амурской областной филармонии, вместе с ним, при этом уже зная многое о нём. В первую очередь то, что никакой он не француз, а русский, и что у него только паспорт гражданина Французской Республики. Ну а на Амур мсье Мишель Болохофф приехал с очень благородной миссией – что-то сделать для России. Да-да, так он мне и заявил: хочу, мол, что-то сделать для России.
Тогда многие добросердечные иностранцы, глядя на наш разор, хотели что-то для нас сделать. Кто-то слал адресные посылочки с «гуманитарной помощью», которые безбожно разворовывались кем-то по пути, а кто-то даже давал кредиты на поддержание социальной сферы и развитие экономики, которые также бессовестным образом присваивали себе какие-то неизвестные люди, вероятно, те, что позже стали первыми российскими богачами.
Что касается Мишеля, то он собирался сделать нечто оригинальное – организовать институт по подготовке, как он выразился, специалистов мирового стандарта. Почему именно этот проект – об этом он мне позже подробно расскажет, при этом будет говорить взахлёб, так, как это делают сумасшедшие в своём порыве романтики.
…Мишель принадлежал к той категории людей, которых новейшая история назвала харбинцами. Эти люди когда-то не приняли большевистскую революцию и были вынуждены бежать на чужбину. Сведения об этих изгоях в советские времена были для нас всегда отрывочными и неполными. И это понятно: господствовавшая несколько десятилетий в стране идеология пыталась выхолостить историю, оставив в ней только то, что было ей выгодно. Поэтому, чтобы мы не узнали чего-то большего, нам были запрещены всяческие контакты с представителями российской эмиграции, оттого в наших издательствах не печаталась художественная и иная литература, созданная русским зарубежьем, потому как там присутствовало своё видение истории. Лишь в последние годы к нам потихоньку стала возвращаться правда. Вот и Мишель Болохофф, потомок первой русской эмиграции, был частью этой правды, явившейся этаким свежим ветром, который уже потихоньку наполнял собой паруса новой истории.
Что касается меня, то я с детства был приучен с уважением относиться к прошлому, потому что это прошлое постоянно окружало меня. Ведь я вырос в городе, из которого за два с половиной десятилетия до моего рождения происходил исход за границу тех, кто не принял большевистскую власть. Однако не всем из них тогда удалось бежать – многие так и остались в Благовещенске на всю жизнь, привнеся на его улицы особый дух старой России. Оттого и город наш, будучи при этом закрытой пограничной зоной, слыл этаким заповедником культуры и интеллигентности, поражая приезжающих своей особой духовной атмосферой.
Кого тут только не было! Здесь можно было встретить и бывшего депутата Государственной думы, и белого генерала, сумевшего выжить в пору сталинских репрессий, и царских чиновников, академиков, придворных врачей, некогда известных деятелей искусства, а ещё оставшихся у разбитого корыта прежних владельцев огромных состояний, короче, всех, кто составлял элиту империи. За эти годы, казалось, они привыкли ко всему и вели скромный образ жизни. Во всяком случае, они старались ничем не отличаться от остальных. Но как спрятать то, что спрятать невозможно? Я имею в виду привычки этих людей, их образованность, начитанность, тягу к прекрасному, в конце концов, те же изящные манеры, которые остались у них навсегда. «Вон, видишь?» – порой говорил мне мой отец, указывая на неторопко вышагивающего по набережной старичка с тростью. Это-де бывший известный учёный. Или вдруг: вон та пожилая женщина в чёрном платье когда-то пела на парижской сцене… Мне было всё это интересно, и теперь я с нескрываемой ностальгией вспоминаю те времена, зная, что они уже никогда – никогда! – не повторятся.
…После заседания я пригласил Мишеля вместе с его секретаршей Ирэн в кафе на чашку кофе. Однако вместо кофе мой новый знакомый предпочёл коньяк, и вот мы, спрятавшись от лютых крещенских морозов в этом уютном погребке, расположенном в одном из старинных зданий на амурской набережной, попиваем какой-то третьесортный коньячок (другого в ту пору было трудно отыскать) и о чём-то непринуждённо разговариваем.
Я с удовольствием слушаю правильную русскую речь Мишеля. У него лёгкий иностранный акцент. Он по-французски элегантен даже в своём простеньком сером свитере и чуть помятых джинсах. Он худощав и по-юношески подвижен в свои пятьдесят два, а подёрнутая зрелой сединой копна курчавящихся волос ни в коем случае не добавляет ему лета. Напротив, она придаёт его внешности эдакий шарм неунывающего любителя жизни. И это после всего, что ему довелось испытать! Видно, решил я, все это заслуга благополучного Парижа, который способен зажечь в человеке искру надежды. Впрочем, глядя на Мишеля, я понял, что и Парижу не удаётся до конца выполнить пластическую операцию души, ибо внутренний надрыв всё равно остаётся…
– Подавляющее большинство харбинцев, – неторопливо повествовал Мишель, удовлетворяя моё любопытство, – жили в городе своей колонией… Русские школы, русские церкви, русские магазины, взаимообщение тоже было на русском. Китайский мало кто знал, но мой случай особый. Я дружил с китайскими мальчишками и от них нахватался чужих слов.
Мишель видел, что я с большим интересом слушаю его, поэтому говорил обстоятельно, выстраивая некую сюжетную пирамиду, где каждый её кирпичик – хронологическая часть его судьбы. Понимая, что подобный случай, когда бы он так полно рассказывал о себе, вряд ли ему скоро представится, Мишель вежливо просит свою помощницу, если у неё есть на то желание, тоже послушать его рассказ – дескать, для того, чтобы она имела о нём большее представление. Эта молодая особа, как потом выяснилось, была немкой, родителей которой вместе с другими поволжскими немцами выселили во время войны куда-то на Иртыш, поэтому для неё патрон был пока что белым пятном на карте её судьбы.
Я прошу Мишеля рассказать о том, как его семья оказалась в Китае. Ведь до этого об исходе русских за границу я читал только в книжках, а тут живой харбинец, который о жизни эмигрантов знал не понаслышке. Мой собеседник кивает головой.
– Здесь, – говорит он, – присутствует некая дискретная сторона, связанная с жизнью моих родителей. Как сказала моя мама, пока она жива, – лучше об этом не говорить, – он вздыхает, видимо, понимая, что поступает вопреки её желанию. – Ясно, что в Китай мы, то есть мои родители, как и большинство харбинцев, попали не по своей воле. Была революция, Гражданская война… Была борьба. В итоге получилось, что многие офицеры Белой армии, казаки, люди иных сословий – торговцы, чиновники, писатели, художники – оказались на той стороне…
В этом месте Мишель невольно указывает взглядом туда, где, по сути, в нескольких шагах от нас под хрустальным ледовым панцирем, тяжело ворочаясь в берегах, пробивает себе путь на восток могучий Амур. Я всем своим видом показываю, что этот исторический факт мне давно известен. На губах моего собеседника появляется хорошая улыбка, какая бывает у интеллигентных воспитанных людей.
– Знаю, знаю, для вас это не ново, – говорит он. – Ещё бы! Ведь именно здесь, в этом городе, и происходил исход русских. Однако известно ли вам, что после революции эмигрантами стали не только те, кто бежал из России? Многие русские в те времена проживали в районе КВЖД – вот все они и составили в начале двадцатых годов русскую колонию, – он делает паузу, наполняет рюмки новой порцией коньяка. – Чин-чин! – произносит негромко и делает небольшой глоток. Мы с Ирэн последовали его примеру. – Ну, а что касается меня, – лизнув для порядка ломтик лимона, продолжил он, – то я принадлежу к тому поколению, которое было поставлено перед фактом, то есть мы родились там, и для нас родина тоже была там. Это для наших родителей то была чужбина.
Тут он начинает рассказывать о своих родственниках, и я чувствую, как его душа наполняется теплом.
– Моя мама Елизавета Владимировна Болохова, – говорил Мишель, – была потомственной, или как раньше говорили, столбовой дворянкой. У её отца Владимира Ивановича Гридасова было большое имение под Москвой. Но самое интересное не это… Дед всегда гордился тем, что в молодости дружил с самим Столыпиным – слышали о таком? – обращается он ко мне. Получив положительный ответ в виде моей саркастической ухмылки, – мол, за кого вы меня принимаете? – он сказал: – Между прочим, это супруга Петра Аркадьевича Ольга Борисовна познакомила деда с его будущей женой, то есть моей бабушкой… Мария Павловна была на двадцать с лишним лет младше своего жениха, который успел прослыть закоренелым холостяком. А тут на тебе, по уши влюбился в молодую воспитанницу Бестужевских курсов. В конце прошлого века пути приятелей разошлись. Мой дед отправился на строительство Китайско-Восточной железной дороги, а Столыпин сделал головокружительную карьеру в Петербурге… Кстати, некий дальний родственник эсера Богрова, ну того, что убил Петра Аркадьевича, многие годы работал под началом моего деда. Говорят, крепко ругал убийцу, а вместе с ним и всех эсеров, которые, по его словам, и привели вместе с большевиками Россию к революции.
Видимо, Мишелю льстило, что его дед был знаком с известным русским реформатором, поэтому он ещё долго пересказывал то, что в своё время слышал от покойного Владимира Ивановича. При этом акцент он делал на их подвижнической деятельности, подчёркивая то, что это были поистине героические люди, отдавшие свою жизнь служению отечеству и незаслуженно забытые потомками. Я был согласен с ним, поэтому сказал, что теперь всё изменится и Россия вспомнит о них, и не только вспомнит, но и использует их опыт в строительстве нового государства.
– Кстати, знаете, где я родился? – отпив из рюмки коньяка, неожиданно произносит Мишель. К тому времени мы ещё не перешли на «ты», потому постоянно «выкали» друг другу.
– Вероятно, в Харбине?.. – предполагаю я.
Мишель широко улыбается, обнажая два ряда крупных, ещё достаточно крепких зубов.
– А вот и не угадали! – по-мальчишески задорно восклицает он. – Я родился, можно сказать, в двух шагах отсюда… На той стороне Амура.
– Как? – удивлённо смотрю я на него.
– Да-да… Тогда это ещё был небольшой городок Сахалян. Старое маньчжурское название нынешнего Хэйхе, – говорит гость. – Там же пошёл в школу, при этом в русскую. Была там такая неполная средняя русская школа. Её директором был бывший белогвардейский подпоручик Павел Николаевич Глубоков, – сказал он и сердечно так добавил: – Человек, отдавший всю свою жизнь образованию и воспитанию русских детей.
На Мишеля тут же вдруг нахлынули добрые и не столь добрые детские воспоминания.
– Павел Николаевич страшно тосковал по России, – говорит он. – Каждый день он выстраивал нас, своих учеников, на берегу Амура, и мы отдавали честь своей Отчизне – так он называл Россию. Я был маленьким, но уже кое-что понимал, и потому смотрел на эту сторону заворожёнными глазами. Ну почему, почему я родился не в своей стране? – думал я. – Почему мне приходится жить среди людей чужой национальности и выносить от них оскорбления?.. Последнее мучило меня больше всего. Ну, взрослым ещё куда ни шло – их жизнь уже не раз била, – а вот каково было нам, молодым, терпеть унижения?
Тем не менее, – сказал Мишель, – все мы, и старики, и молодёжь, чувствовали себя там чужими. Особенно тяжело нам стало жить после того, как к власти в Китае пришли коммунисты. Если раньше нас могли просто обозвать, допустим, тем же обидным для нас словом «лаомаудзе», что означает «волосатый» или «волосатая обезьяна», то с приходом коммунистов нам стали недвусмысленно намекать, чтобы мы убирались вон. А куда нам идти, если нас никто нигде не ждал? Ну разве это не трагедия?.. – появившаяся у Мишеля трагическая складка между бровей говорила о том, что он до сих пор тяжело переживает всё, что с ним когда-то произошло.
…Уже в первые минуты нашего знакомства я понял, что Мишелю очень трудно говорить о своём прошлом. Но как это порой бывает в подобных случаях, что-то упорно заставляло его выговориться до конца. Видно, такое редко с ним случалось, потому он и спешил сбросить с души этот тяжёлый груз, который не давал ему свободно дышать.
Детство своё Мишель провёл на границе с Советской Россией, где его отец Александр Петрович служил в пограничной сторожевой охране, полностью скомплектованной из бежавших после Гражданской в Китай белоказаков. Что заставило старшего Болохова перебраться в Сахалян, о том Мишель умолчал, поскольку это была их семейная тайна, которую он никому не хотел открывать. И только позже, когда мы станем добрыми приятелями, он в порыве откровения поведает мне многое из того, о чём он никому никогда не говорил. А тогда сказал только, что отец не нашёл в Харбине приличной работы, поэтому согласился за сто таянов коротать свою жизнь вдали от цивилизации. Где не было больших городов, где вместо широких проспектов и современных зданий были узенькие улочки с прилепившимися друг к другу допотопными фанзами, дышащими чесночным угаром, в которых жила забитая и неграмотная китайская беднота.
Мишель рано научился читать по-русски. В их школе была небольшая библиотечка, где он брал книги для чтения. Авторами их были русские классики – Аксаков, Пушкин, Лермонтов, Карамзин, Гоголь, Тургенев, Лев Толстой, Блок… Это они воспитали в нём любовь к исторической родине, они наполнили его душу светом и теплом, ни на минуту не давая ему забыть, что он русский. Это потом он увлёкся Шекспиром, Гейне, Гёте, Рильке, Ларошфуко… Это потом он прочитал «Метаморфозы» Овидия, «Разговоры с Гёте» Эккермана и «Происхождение трагедии» Ницше, но только для того, чтобы поднять свой культурный уровень, без чего его бы не приняли в хорошее общество.
Школьную обстановку он помнит до мельчайших подробностей. К примеру, он помнит старый школьный клавесин, который после Гражданской войны привёз с собой какой-то русский эмигрант. Мишель любил порой побренчать на нём, и это было его первое, как он выразился, соприкосновение с музыкой. С тех пор без музыки он никуда. Впрочем, вся его семья музицирует, а у него самого хороший тенор и он мне позже, это когда мы в сумерках вышли на амурскую набережную, продемонстрирует его.
По словам Мишеля, жизнь русской колонии в Сахаляне группировалась в основном вокруг их школы. Многие из эмигрантов жили в страшной нужде. Испытывала нужду и семья Болоховых. Мишель помнит, что когда он в восьмилетнем возрасте пошёл в школу, то ему нечего было надеть и обуть. Поэтому матери, к тому времени оставшейся без мужа, приходилось ходить по домам, выполняя тяжёлую работу. Она белила жилища, мыла полы, окна, подметала улицы – только бы заработать на жизнь. И это бывшая-то рафинированная дамочка с блестящим образованием и дворянским происхождением!
Короче, первый раз Мишель пришёл в школу в носках, и детвора здорово тогда над ним поиздевалась. И только директор школы, бывший подпоручик Павел Николаевич Глубоков, смог угомонить детей, объяснив им, что жизнь штука полосатая, потому завтра каждый может оказаться в таком же положении.
Наверное, в таких невыносимых условиях и появляется эта бешеная тяга к знаниям, сопряжённая с желанием поскорее выйти в люди. Поэтому уже через год Мишеля как успешно освоившего первоначальный курс обучения перевели сразу в пятый класс. Однако в начале пятидесятых русские стали поголовно покидать Сахалян, и в их школе, по сути, некому стало учиться. Пришлось записаться в китайскую.
Что касается Болоховых, то они уезжать не торопились. Мать решила, что дети должны были прежде окончить школу и по примеру её старшего сына Николая – тот уехал на учёбу в город Дальний, который китайцы называли Далянем, – поступить в университет. В Сахаляне к тому времени оставалось не больше сорока-пятидесяти таких семей, но семьи эти в основном были смешанными. Впрочем, здесь всегда преобладали семьи со смешанным браком. Чисто русские же семьи составляли большие колонии только в Харбине и Дальнем. Ну, разве что ещё в Шанхае.
2
Мишель помнит, что, когда он жил в Сахаляне, там, за Амуром, ещё существовали казачьи поселения, где люди в основном занимались фермерством, – но то был уже их закат. Китай после победы революции стал создавать по примеру Советского Союза коллективные крестьянские хозяйства, которые постепенно вытесняли русских фермеров, потому тем ничего не оставалось, как перебираться в другие страны. Первыми уехали те, у кого было куда ехать, а главное – были деньги, а у кого их не было или кто не хотел уезжать далеко от России, те держались. Но в пятидесятые отношение к русским в Китае резко изменилось. Притом не в лучшую сторону. Как полагает Мишель, это было связано с секретными договорами между правительствами Советского Союза и Поднебесной, в результате чего и была решена участь белоэмигрантов. Русские стали массово покидать Китай. При этом мало кто знает, что в те времена был в ходу этакий обмен, когда китайцев, что жили в Советском Союзе, отправляли на свою историческую родину, а русских – на свою. Так, без всякого на то согласия – только волевым решением.
– Ну а Харбин?.. Как вы оказались в Харбине? Вы же, кажется, в начале нашего знакомства назвали себя именно харбинцем… – аккуратно, так, чтобы мой собеседник не потерял нить повествования, обращаюсь я к нему.
– В Харбин как попал? – переспрашивает Мишель, делая знак мне наполнить рюмки. – После того, как мы остались без отца, мать решила, что лучше будет, если мы уедем в большой город, где бы она могла найти приличную работу. А время было смутное. Революционный порядок коммунисты ещё не успели навести, поэтому жизнь человеческая ничего не стоила. В пути могли и арестовать нас, и ограбить, и даже убить.
Он на минуту умолкает – будто бы копается в памяти. Я чувствую, как это тяжело ему даётся. Другое дело, если бы он каждый день занимался воспоминаниями, тогда бы у него, быть может, выработалась привычка не чувствовать боль, а тут он лишён был этого противоядия.
По его словам, мать тогда не узнала Харбин, где прошли её детство и юность. С улиц почти исчезли европейские лица, их заполонили раскосые глаза военных в обмотках, а ещё многочисленные толпы людей в лохмотьях, которые в массе своей были крестьянами, бежавшими от голода и готовыми за чашку риса работать по двадцать четыре часа в сутки. Болоховым пришлось влиться в ряды этих нищих. Так втроём, мать, Мишель и его младший брат Иван, они и бродили по Харбину, прося милостыню, которую им даже некому было подать. Пришлось перебиваться случайными заработками. Мать мыла посуду в китайских забегаловках, чистила овощи, стирала чужое бельё, пацаны же, когда удавалось, зашибали копейку в речном порту, помогая купцам перевозить через Сунгари на «юли-юли» товар, или находили работу на овощном рынке.
Это был, по сути, закат русской колонии. Всё рушилось, всё менялось… Повсюду шло наступление на частную собственность. И если в конце сороковых людям ещё разрешалось иметь собственное дело, то в начале пятидесятых предпринимателей стали потихоньку прижимать, а потом и вовсе запретили им всякую деятельность. Следом одна за другой стали закрываться церкви – паствы-то не стало, – наконец, из-за массового отъезда русских прикрыли и русское консульство. Было понятно, что виной всему была жёсткая позиция советского правительства, которое не только не поддерживало колонию, но и, как могло, способствовало её уничтожению.
– А как с учёбой? – спрашиваю Мишеля. Какая-де школа, коль нужно было зарабатывать на жизнь?
Тот улыбнулся.
– Нет, как же, учились! – говорит. – В Харбине мы с братом с утра посещали занятия в китайской гимназии, а после обеда шли в русскую школу. Спросите, когда мы работали?.. По вечерам. Часто ночью. Вот так, хочешь, как говорят русские, жить – умей вертеться. А мы хотели жить. Хотели стать людьми. Как наш старший брат, который, окончив институт и став шэньши, то есть учёным мужем, получил хорошую должность в Мукдене. Мы тоже хотели стать шэньши, а потом уехать куда-нибудь далеко-далеко. Помнится, когда мне было лет четырнадцать, я очень хотел уехать в Австралию. Не знаю почему – наверное, книжек детских начитался об этой загадочной стране. А вот мама моя была человеком наивным во всех отношениях, – кто-то из эмигрантов ездил в Россию и, вернувшись, говорил о том, что там хорошо. Сегодня уже понятно, кто эти «рассказы очевидцев» готовил, но тогда… – Мишель усмехнулся. – Короче, часть эмиграции клюнула и решила ехать в Советский Союз. Ведь это была родина!..
Я продолжаю слушать Мишеля, наслаждаясь его хорошей русской речью и всё глубже и глубже погружаясь в его нерафинированную правду. Знаю давно, что порой вот эта безыскусная сермяжная правда бывает ценнее и привлекательнее иного изысканного и талантливого романа.
– Мне было чуть больше четырнадцати, – переходит к новой главе своей биографии Мишель Болохофф, – когда моя мать привезла меня и моего младшего брата в Советский Союз. Старший брат отказался ехать, сославшись на то, что у него очень интересная работа. Хорошо помню, как мы пересекали границу… – в этом месте Мишель делает небольшую паузу – будто бы собирается с духом. Видимо, то был не лучший момент в его жизни – иначе бы в глазах его не было столько боли. – Добравшись на поезде до станции Маньчжурская и пройдя необходимую таможенную и пограничную процедуру, мы оказались на советской территории. Там, на станции Забайкальской, к нам подошёл какой-то русский мужичок и попросил у матери денег на выпивку. Выпил и говорит: «Что вы, дураки, наделали? Зачем приехали?.. Э-эх!..»
Я мало что ещё в ту пору соображал, но это «э-эх!» произвело на меня впечатление и я вдруг почувствовал, что мы попали в мышеловку, – за нами захлопнулась дверца и мы оказались в плену. И если на той стороне мы ещё были благородными эмигрантами, которых китайцы хотя и притесняли, тем не менее, не лишали права оставаться людьми, то здесь нас ждало нечто страшное… Наша жизнь молниеносно изменилась.
А потом были «телятники» – эти вагоны для перевозки скота, в которых бывших «харбинцев» полмесяца везли до Омска. Там их погрузили в военные грузовики и забросили в голую казахстанскую степь, где единственным на сто вёрст вокруг селением был казахский аул Курумбей.
– В память о той страшной жизни моя загородная ферма во Франции носит схожее название Куранбель, – говорит Мишель. – Это для того, чтобы я не забывал своё прошлое… «Кур» – это «двор», «бель» – «красивый». Получается «красивый двор».
Я покачал головой. Он воспринял моё удивление по-своему и как-то многозначительно посмотрел на меня. Дескать, именно так, «красивый двор», а вы как хотели?..
По словам Мишеля, в том Курумбее, как и в других близлежащих сёлах, люди даже не имели на руках паспортов. Они были подневольные и бесправные. Хлебнув сполна той скотской жизни, в одну из ночей семья Болоховых бежала из резервации. Куда идти, они не знали. Сориентировавшись по звёздам, пошли на север. Кругом степь, дикое безмолвие, и лишь где-то вдалеке слышалась протяжная, как сама беда, волчья унылая перекличка. Так и шли без воды, без еды несколько суток, пока не наткнулись на какое-то русское селенье, расположенное рядом с железной дорогой. К людям выходить побоялись – а вдруг те схватят их и вернут в резервацию, а ещё хуже – посадят в тюрьму? Вырыли возле железнодорожного полотна землянку и стали в ней жить. Поначалу питались какими-то кореньями, а когда стало невмоготу, всё же вышли к людям. Слава богу, никто даже не поинтересовался, кто они, откуда – видно, те люди сами горе мыкали, а оттого не было им дела до других горемык.
Там, в деревне, и жильё себе нашли. Время было послевоенное, селения русские поредели. Одних людей война выкосила, других болезни. Так что с десяток хат стояли с заколоченными окнами. Одну из них Болоховы и присмотрели себе.
Позже для Елизаветы Владимировны и работа нашлась – стала преподавать английский и литературу в местной школе, туда же пошли учиться и сыновья.
Для Мишеля по-прежнему учёба оставалась главным в его жизни. Всё, что он увидел здесь, настолько его потрясло, что ему как никогда захотелось поскорее встать на ноги и зажить другой жизнью. К пятнадцати с половиной годам, успешно освоив полный курс школьной программы, он сдал выпускные экзамены, при этом сдал их на «отлично».
После этого, не раздумывая, он уехал поступать в МГУ. Мать, зная о намерении сына, два года копила для него деньги. Однако, видно, зря: в университете, изучив биографию Мишеля, ему дали понять, что в свои неполные шестнадцать он для советского общества человек уже совершенно потерянный, что ему с его эмигрантским прошлым нечего и соваться в такой престижный вуз, как МГУ.
Вот тут-то Мишель окончательно понял, что ничего хорошего в этой стране ему не светит, и что он сделал большую ошибку, когда не стал отговаривать мать, которая решила вернуться на свою горячо любимую родину.
…И всё же Мишелю удалось поступить в главный вуз страны. Наверное, там учли его незаурядные способности, когда он без чьей-либо помощи сдал все пять вступительных экзаменов на «отлично». Исполнилась его давняя мечта – он стал студентом отделения восточных языков МГУ.
– Это было, конечно же, чистой случайностью, – говорит он. – Особенно это стало ясно, когда я увидел, кто окружал меня в университете, – это были сплошь дети партийных работников, генералов, маршалов и министров… Помнится, на нашем курсе оказалось лишь восемь студентов из низшего сословия, которые попали в вуз только благодаря своим знаниям, а не высокопоставленным папашам.
На тот момент Мишель ещё недостаточно хорошо понимал сущность коммунистических идей, и это мешало ему ориентироваться в жизни. Чтобы заполнить этот пробел, он стал заниматься самообразованием. Для этого, если верить его словам, он прочёл пятьдесят пять томов сочинений Ленина и сорок семь Маркса и Энгельса. Ну а поскольку, по словам Ленина, марксизм нельзя познать без знания Плеханова, он ко всему прочему «махнул» ещё и двадцать восемь томов первого русского марксиста. При этом чем больше он читал этих просвещённых материалистов, тем всё чаще вспоминал трудовой люд Сибири, куда их с матерью и братом однажды забросила судьба. Вспоминал доярок, которые, окоченевшими руками доили на морозе коров, их худющих вечно голодных детей, мужиков, которые, не в силах прокормить семью, опускали руки и спивались…
Что и говорить, рассуждал Мишель. Нужно просто сравнить действительность с теорией, с её радужными выводами и понять, что это совершенно разные вещи. Марксисты говорили одно, а на деле у них получалось другое. Ему хотелось плюнуть на всё и уехать. Но куда уедешь, когда тебя нигде не ждут? Да и уехать-то невозможно, разве что сбежать. Пришлось после университета устроиться на работу в институт востоковедения, где ему предложили место редактора радиостанции «Мир и прогресс», вещавшей на китайском языке. Работа, можно сказать, не пыльная, однако он теперь думал лишь об одном – как вырваться за границу. Он был сыном эмигрантов, а такие, вкусив однажды свободы, будут потом бредить ею всю жизнь. Ему было тесно в этом замкнутом пространстве странных иллюзий, где практически не было места человеческой инициативе и самостоятельности, а, следовательно, возможности заниматься поиском своего пути в науке. Где каждый человек должен был ощущать себя лишь послушным винтиком в организме этого бездушного авторитарного общества.
А Мишель мечтал о большой науке. Ещё учась в МГУ, он начал разрабатывать неординарную систему преподавания китайского языка. Особенно его занимала проблема иероглифики (позже в Европе стали использовать термин, который придумал Мишель – синограмма). Он пытается создать такой программированный метод, с помощью которого было бы не трудно научить человека китайской письменности. Забегая вперёд, нужно сказать, что исследователю (по словам Мишеля, на западе люди науки не любят называть себя учёными, а предпочитают термин «исследователь», ибо так звучит скромнее, но дела не меняет) удалось осуществить свою идею. Но это произойдёт уже в Сорбонне, знаменитом парижском университете, куда он в конце семидесятых попадёт на стажировку да так и останется в его стенах, не пожелав вернуться домой. Там он получит звание профессора и станет известным на весь мир китаеведом. Своё решение остаться во Франции считает осмысленным, потому как был уверен, что, когда он освободится от груза идеологии, он сделает больше для науки. Иное его не интересовало, ибо по натуре он был законченным аскетом. Главное для него богатство – это книги, без которых он не представляет своей жизни. Немаловажно здесь было и то, что он женился на француженке по имени Дельфина Велерс, востоковеде и внучке известного ученого-физиолога, которая, привыкшая к западному комфорту, ни за что бы не поехала в неустроенную Россию.