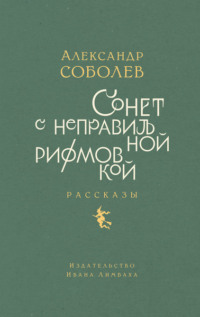Buch lesen: "Сонет с неправильной рифмовкой"
Кто, по совести своей,
Быть не должен в жизни сей,
На себя так и взирает;
Тот здесь дважды умирает.
Тредьяковский
Где вы, знакомыя созданья
безценныя
Иныя и сколькихъ
Иныя далеко многихъ нетъ
Иныхъ ужъ въ Mipe нетъ
Пушкин
Гершко лег спать и на ночь надел на нос очки.
– Что ты делаешь, Гершко? – спросила его жена. – Зачем одеваешь очки перед сном?
– Я близорук, – ответил Гершко, – так я одеваю очки, чтобы яснее видеть сны.
«Знаменитый еврейский шут Гершко из Острополя»
Автор что хочет, то и делает.
.. Гинзбург
Игра лучей
Петр Константинович Рудковский, тридцатипятилетний программист, полноватый блондин с таким выражением лица, как будто он чуть не сказал неловкость, но в последнюю секунду одумался, начал слышать голоса. Первые несколько недель они звучали на манер радиоприемника или телевизора, включенных в соседней квартире: многоголосый нечленораздельный бубнеж, из которого при некотором умственном напряжении можно было вычленить отдельные интонации и некоторые промежутки между репликами; впрочем, здесь же обнаружился и ряд странностей, которые он не то чтобы отметил напрямую, но как-то сберег на обочине души, на манер тех еле заметных карандашных, а то и ногтевых отчеркиваний, которыми любили совершенно машинально помечать отдельные места на полях бумажных книг читатели прошлых поколений. Голоса звучали как будто одновременно, словно разговаривали люди не между собой, а каждый со своим собственным безответным собеседником. Если бы он был постарше, то ему мог бы вспомниться звуковой фон большого переговорного пункта в главном почтовом отделении крупного города, но это сравнение по молодости лет ему в голову не пришло. Подивившись забывчивости соседей, за которыми раньше ничего подобного не водилось, Рудковский постарался отрешиться от непрошенных звуков, что ему в результате и удалось: только ночью, встав по нужде и снова услыхав разговоры за стеной, он опять удивился тому, что голоса не смолкли, а лишь стали словно бессвязнее – будто говорящие, наскучив членораздельной речью, тянули нараспев какие-то словесные обрывки.
Этот и следующий день пришлись на выходные, к концу которых постоянный звук, никуда тем временем не девавшийся, сделался привычным фоном, как шум и гудки машин для горожанина. Впервые он заподозрил неладное, когда оказалось, что невидимые говоруны проследовали за ним в автобус: хотя свист кондиционера, шипение дверей и урчание мотора переменили звуковой пейзаж, сами разговоры остались при нем, хотя и отодвинулись немного на дальний план: более того, впервые он разобрал отдельное слово – и слово это было «изразец». «Какой изразец, почему изразец?» – приговаривал он с растущим раздражением, выходя на своей остановке и сворачивая во двор бывшей фабрики, которая по московскому обычаю была переделана в конгломерат демонстративно чистеньких и даже лощеных кирпичных домов, даром что общий смысл свершавшегося в них за полтора столетия, с тех пор как там гудели машины и валил клубами сизый дым, не поменялся ни на гран.
Два дня ушло на попытки заглушить эти неотвязные звуки домашними методами: Рудковский обошел соседние квартиры, прислушиваясь, не доносится ли сквозь какую-нибудь из дверей очевидный шум, причем чтобы попасть на нижний этаж, жители которого отгородились от мира тяжелой деревянной дверью, напоминающей больше крепостные ворота какого-нибудь старинного немецкого городка, ему пришлось заручиться помощью консьержа. Быстрое воображение, всегда имеющееся наготове у натур определенного склада, услужливо подобрало ему несколько сюжетов, в которых невыключенный телевизор оказывался первым из грозных признаков, скрывающих случившуюся в нескольких метрах от него драму, но этому всегда готовому сценаристу пришлось покамест захлопнуть свою тетрадку – звуки из-за дверей были совершенно мирными: где-то вовсе стояла тишина, где-то читали детским голоском нараспев стихотворение, подвывала стиральная машинка, чреватая чьим-то исподним, лаяла собака. Голоса же при этом не унимались.
Отыскав прилагавшиеся к позапрошлому телефону наушники, Рудковский попытался по рецепту древних врачевателей излечить подобное подобным: впрочем, первая попавшаяся радиостанция передавала такую пакостную ерунду, что голоса в голове, в первую секунду как бы неуверенно стихшие, показались не худшим из возможных вариантов. Не удалось заглушить докучные разговоры и включением музыки через колонки: разговоры, и не думая смолкать, просто приобретали новый фон, словно диалог двух давно не видевшихся приятелей, неохотно утихающий под укоризненными взглядами, почти физически ощущаемыми сквозь сумрак кинозала. Беда была как раз в том, что этот самый укоризненный взгляд никак нельзя было пустить себе прямо в черепную коробку, хотя Рудковский и провел чуть не полчаса, стоя перед зеркалом и пытаясь обнаружить в выражении лица и прежде всего в серых испуганных глазах признаки надвигающегося безумия – и ничего не найдя, удовлетворился тем, что истребил растительность в носу.
Между тем слова делались разборчивее и складывались иногда в целые, хотя и недлинные фра-зы: так, вероятно, младенец или кошка, постигая мир, сперва слышат отдельные наименования предметов, а лишь во вторую очередь научаются воспринимать их выраженные словесно положения. Сначала услышанное казалось лишь бредовой разноголосицей, хаотически выносимой на поверхность какого-то исполинского словесного варева: Рудковскому пришло в голову, что если пропустить, например, «Войну и мир» через офисную машинку для уничтожения документов и тянуть из получившейся бумажной лапши полоску за полоской, то эффект будет схожим. Истинное понимание происходящего вновь пришло к нему в автобусе: рассеянно глядя за окно, он слышал в голове повторяемое раз за разом «третья, осталось две», «четвертая, осталась одна», «он сказал школа, пора» – и мосластый старик, не по погоде закутанный в клетчатый шарф, стал, перехватывая поручень, как моряк в качку, пробираться к выходу.
Это открытие переменило все: хотя голоса остались прежними, но сам Петр Константинович, изводивший себя последние дни чтением статей про опухоли мозга и острые приступы шизофрении, отринул мнительность и сосредоточился на ревизии доставшегося ему дара. Как и всякий посланный небесами талант, способность читать чужие мысли оказалась капризной, переменчивой и гораздо менее захватывающей, чем представляется вчуже. Внутренне он (это сопоставление было лестно) сравнивал себя с музыкантом-виртуозом или гениальным живописцем – обоим для того, чтобы явить себя зрителям, надобились не только дорогостоящие инструменты (или холст с красками), но и то особенное состояние духа, которое служило непременным условием для создания хотя бы и короткоживущего, но шедевра.
Бывали дни, когда он слышал лишь ровный гул, почти не расчленимый на отдельные реплики; иногда один голос накладывался на другой так, что нельзя было разобрать слова ни одного из них, а иногда, сильно его пугая, в воздухе вдруг повисала ватная тишина, заставлявшая панически сожалеть о внезапной утрате новых способностей (хотя еще несколько дней назад внезапное выключение шумов заставило бы его возликовать). Более того, даже в удачные дни услышанное редко оказывалось вполне членораздельным и законченным текстом. Оказалось, что люди, как правило, думали не фразами и даже не обрывками фраз, а лишь бессвязной последовательностью слов, изредка склеивавшихся в короткие предложения. Поразмыслив, он понял, что в сознании слова неотделимы от образов и поток обычного человеческого мышления представляет собой их переплетающиеся цепи: представляя себе картинку, мозг, словно карикатурист юмористического журнала, придумывал для нее подпись – и наоборот, к пришедшему в голову слову или фразе достраивалась сценка или изображение. Таким образом, последовательность мыслей незанятого субъекта представляла собой бесконечную череду быстро листаемых картинок с подписями (или кадров с субтитрами), причем связи между ними, может быть, и очевидные для самого думающего, оказывались по большей части таинственными для невольного наблюдателя. При этом свидетель, естественно, не имел доступа к визуальной части этого потока, ограничиваясь лишь словесной, что дополнительно искажало картину: как если бы слепец пытался понять фабулу остросюжетного фильма, следя лишь за репликами героев, – при том что фильмов вокруг него идет несколько, и ни один не с начала.
Обычно взрослому человеку любой новый навык достается слишком тяжело, для того чтобы простодушно ему радоваться: трудно вообразить особу, которая, закончив бухгалтерские курсы, будет для собственного удовольствия перемножать числа в уме, бескорыстно наслаждаясь приобретенными возможностями. Рудковский, на которого непрошенный дар буквально свалился с неба, убедившись в его неотменимости, как бы недоумевал, что с ним делать (как, может быть, первобытная рыба, выбравшись на берег, изумленно таращилась на появившуюся у нее пару рудиментарных лапок), но позже попытался аккуратно осознать границы своих телепатических возможностей. Особенно трудно было, как выяснилось, сопоставить голос и его владельца: наблюдения за сослуживцами, сидевшими, как водится в современной Москве, в отдельных стеклянных загончиках бывшего цеха, показали, что внутренний и внешний голоса одной личности не имеют между собой ничего общего: дизайнер по фамилии Пронин, угрюмый, быстро краснеющий крепыш, бугрящийся мускулами, в жизни говорил отрывистым баритоном, тогда как мысли его транслировались сбивчивым, запинающимся тенорком. Напротив, тощая интриганка Думинская, болезненно ревновавшая своего мужа, служившего в петербургском филиале той же корпорации, и науськивавшая шпионить за ним каждого из коллег, отправлявшихся туда в командировку, в мыслях обладала мягким и каким-то даже развратным мужским басом, цедящим про себя обидчивые обрывки.
Несколько недель спустя Рудковский уже совершенно свыкся с новым умением, перестав замечать вечный гул голосов в своей голове. В основном справился он и с тем, чтобы мысленно расплетать многоголосицу на реплики отдельных солистов: так, оказавшись в кафе с двумя десятками посетителей и двумя затормошенными официантками, он уже через несколько минут примерно понимал, кому какой голос соответствует: может быть, какой-нибудь из воркующих парочек он и присваивал случайно слова их соседей, но в основном сделанное им предварительное распределение подтверждалось – и он с мрачным удовлетворением отмечал, как лощеный господин, только что тревожно прикидывавший, сколько денег осталось у него на карте, вальяжным жестом требует счет.
Случалось ему и поразмыслить, каким бы образом можно было, приручив свою способность, поставить ее на практические рельсы. Выходило, что лучше всего было бы применить ее в карточной игре: он уже знал, что человек, читающий расписание или – особенно – подписи в музее, непременно повторяет их про себя. Последнее открытие представляло собой результат проделанного эксперимента: Рудковский хотел, оставшись в достаточно большом помещении наедине с кем-нибудь незнакомым, проверить, насколько уединение помогает чтению мыслей. Сперва он собирался подкрасться за городом к какой-нибудь отдельно стоящей избе, но этот план наткнулся на целую череду затруднений: он был городским жителем и даже не вполне понимал, каким образом ему добраться до настоящей деревни, а потом небезосновательно полагал, что, попавшись местным за этим подкрадыванием, может быть принят за злоумышленника: конечно, объяснить истинное положение вещей он не отважился бы ни пейзанам, ни полиции. Поэтому он решил пойти в будний день с утра в какой-нибудь музей не из самых популярных, предполагая, что там удастся отыскать нужную декорацию для предстоящего опыта.
С рождения живя в Москве, он был до смешного равнодушен к столичным достопримечательностям, машинально передвигаясь между домом и школой, домом и институтом, домом и работой: лишь очень редко ему случалось, вырвавшись по редкой надобности за пределы обычных своих маршрутов, вдруг залюбоваться каким-нибудь игрушечного вида храмом, со всех сторон окруженным, как крестоносец мамелюками, подступающими многоэтажками. В музеях же он после школьных экскурсий и нескольких неловких свиданий ранней юности (его провинциальная подружка, чтившая конвенансы, любила таскать его по мемориаль-ным квартирам отставных знаменитостей вроде художника Мафлыгина) не бывал, кажется, ни разу. Почему-то для эксперимента он выбрал Зоологический – вряд ли полагая, что случившееся с ним чудо правильно изучать между других свидетельств Божьего величия, а скорее по школьной памяти: запомнились безлюдные залы с навощенным паркетом, чучело кабана с наркотическим блеском глаз и чей-то исполинский скелет, выглядевший в окружении шерстистых товарищей по несчастью, как нагой среди одетых.
Как это обычно бывает с детскими воспоминаниями, реальность никак не могла приникнуть к ним без зазора: другими помнились и лестница, и экспозиция, и даже сами чучела, хотя, казалось, за ничтожные по историческим меркам два десятилетия ничего с ними произойти не могло. Зато чаемое уединение действительно досталось без труда: в десять утра в музее не было никого, кроме смотрительниц. Умом Рудковский понимал, что выглядит довольно нетипично, чтобы не сказать подозрительно, словно мужчина, пришедший без спутников на утренний спектакль в кукольном театре, но трудно было, даже обладая игривым складом ума, придумать злодеяние, которое он мог бы в окружении чучел совершить – разве что похитить одно из них. Впрочем, чтобы избыть неловкость, он мигом придумал себе легенду: дескать, провинциальный учитель зоологии, задумав организовать в школе маленький музей родного края, хочет набраться опыта в лучшем из возможных образцов для подражания. Выдумка эта не выдержала бы первых же вопросов гипотетического собеседника: в биологии он был поверхностен, провинции не знал, с учительским бытом был незнаком, а детей не любил, – но, как любая смутная фантазия, она успокоила его и добавила ему уверенности. Тем более что из-за стеклянных витрин с тиграми (один из них, привстав на задние лапы, жестикулировал передними, как будто показывая зрителю дорогу) донесся поток вполне отчетливых мыслей – настолько членораздельных, что Рудковский даже принял их сперва за живую речь. «Урсус маритимус – на месте», – говорил юный девичий голос. «Пантера пардус – присутствует, две штуки», – продолжал он. Выглянув из-за витрины с тигром, Рудковский обнаружил типичную старушонку-смотрительницу, представительницу милого русского типажа, почти неизвестного за пределами отечества, а постепенно вымирающего и у нас: всегда и по любому поводу готовые к сваре с посетителем, подозревающие всех и каждого в стремлении нанести урон драгоценным экспонатам, привыкшие, словно снайпер в засаде, проводить часы и годы в настороженной праздности, эти пожилые дамы будто вылуплялись из каких-то особенных куколок и, минуя детство, отрочество и юность, выходили на работу сразу уже в сущем виде. «Пантера тигрис в порядке, оба экземпляра», – проговорила она прямо ему в лицо и только теперь с опозданием он понял, что губы ее не шевелятся. «Хомо сапиенс, довольно потасканный, для экспозиции не годится, – продолжала старушка, поводив по нему взглядом и медленно поворачиваясь. – Вот ведь принес черт этакую дылду с утра пораньше». «Дылда» эта почему-то была Рудковскому особенно обидна, тем более что росту он был не сказать чтобы особенно высокого – лишь немного выше среднего. Несмотря на это финальное огорчение, эксперимент можно было считать удавшимся: действительно, отсутствие поблизости других сапиенсов, если пользоваться старушкиной терминологией, делало чужие мысли гораздо более отчетливыми.
Но применить свой дар в практическом смысле, то есть в карточной игре, он все-таки не смел. Для себя он объяснял это нежеланием профанировать доставшуюся ему способность, словно высшие силы, вручившие ее, могли обидеться за то, что он посмеет поправить с ее помощью свои финансовые дела: как не в меру заботливый отец, преподнесший малолетнему отпрыску микроскоп, был бы уязвлен, заметив, что чадо колет им орехи. На самом деле Рудковский, с обычной своей трусоватой косностью, просто побаивался: азартные игры в России были под запретом, так что следовало бы или лететь в другую страну или искать какие-то ходы к таинственному миру подпольных клубов, которые он смутно представлял по американскому кино: красотки в широкополых шляпах, чернокожие громилы с бульдожьими лицами и пудовыми кулаками, самоуверенные мужчины в смокингах. Для человека, которому любое отступление от рутинных траекторий давалось болезненным напряжением нервов, оба эти пути были нестерпимыми: самолетов он не любил и боялся (да и не было гарантии, что иноязычные мысли останутся для него той же открытой книгой, как и отечественные) и никаких знакомств в криминальной или близкой к ней среде не имел – и пробивалась где-то на краю его сознания, как ручеек в лесу, мыслишка-подозрение: а что если за покерным столом напротив него окажется человек с той же, как говорили в обзорах компьютерных игр, суперспособностью. Этот маловероятный, но все-таки не полностью невозможный казус грозил двойной бедой – и проигрышем (а из тех же фильмов он хорошо знал, что бывает с задолжавшими в карты), и болезненным ударом по самолюбию.
При этом обретенная, но неиспользуемая способность угнетала его – как чемпион-лыжеборец изнывал бы в пустыне. Он подслушивал попутчиков и сослуживцев; любил, приноровив свой широкий шаг к походке какой-нибудь следующей в попутном направлении пары, сравнить их внешний разговор с потоком обоюдных мыслей; иногда просыпался среди ночи от кошмара, привидевшегося соседу, чье изголовье было в полуметре от его собственного, хоть и отделенное двадцатисантиметровой бетонной стенкой, – и все это проходило по разряду невольных развлечений, как будто кто-то обещал ему в будущем настоящее дело.
Между тем кое-что действительно должно было поменяться: в один сентябрьский день начальство вызвало его к себе и сообщило (сперва отрывистыми мыслями, а после и членораздельно), что Рудковский командируется на месяц в Санкт-Петербург (который начальство, будучи заскорузлым советским старичком, именовало Ленинградом) ради обучения местных сотрудников тому-то и тому-то. Смысла в этом было немного, поскольку любое обучение сколь угодно крупной аудитории Рудковский мог бы провести, не вставая с рабочего места, но начальство, даром что руководило большим компьютерным подразделением еще более крупного холдинга, было человеком старомодным, ценящим еще с прежних времен всю немудрящую командировочную мифологию, и всех этих модных штучек не признавало: начальство любило орать в телефонную трубку, апоплексически отирая благородные черты настоящим свежим клетчатым платком, и вообще представляло собой настолько цельную карикатуру на замшелого начальника, что казалось ненастоящим.
Слух о предстоящей командировке быстро разошелся среди коллег: замечательно, что иные манеры и обычаи, казавшиеся хрупким и невольным порождением своего времени, легко проскользнули в замочную скважину истории, тогда как окружавшие их и казавшиеся незыблемыми декорации рассыпались в прах. Так, поездка по казенной надобности в другой город, несмотря на упростившиеся обстоятельства, до сих пор была окутана особенным романтическим флером – сквозь гул поднявшихся мыслей Рудковский различил и нотки зависти, и вкус возбуждения, и какое-то сочувственное предвкушение якобы предстоящих ему наслаждений, словно собирался он не в продуваемый холодными ветрами северный город, а как минимум на Лазурный Берег. На вербальном же уровне, помимо общих пожеланий счастливого пути, он получил лишь многословное напутствие Думинской, призывавшей его не просто приглядывать за ее, вероятно, отбившимся от рук мужем, но и по возможности расставить ему ловушку, чтобы посмотреть, как он себя поведет, когда его монашеская убежденность подвергнется испытанию. Рудковский хотел было спросить, не стоит ли ему предложить г-ну Думинскому прошвырнуться в публичный дом, чтобы пронаблюдать за его реакцией, но, поскольку внятная речь его собеседницы сопровождалась внутренними, но слышными ему басовитыми всхлипами и ахами, он удержался, пожалев ее, а может быть, и робея возможных осложнений.
Остромордый поезд с красными злыми глазками равнодушно принял Рудковского в свое плюшевое нутро и столь же бесстрастно выплюнул его, хоть и немного утомленного безмолвными монологами попутчиков, четыре часа спустя на петербургскую платформу, которая была бы неотличима от московской, если бы не ряды встречающих с однотипными табличками «прогулки по крышам»: словно бы с поездом следовала делегация котов и кошек. Проведя на диво спокойную ночь в гостинице (вероятно, из-за межсезонья соседние номера стояли пустыми, обеспечивая блаженную чистоту ментального эфира), свежевыбритый и чрезвычайно довольный жизнью Рудковский отправился разыскивать местный филиал своей фирмы. Даже при наличии полного адреса и электронной карты в телефоне это оказалось делом непростым – искомый флигелек спрятался в пазухе одного из бывших правительственных зданий, да так удачно, что подобраться к нему могла лишь птица небесная, не знающая преград: с одной стороны квартала Рудковский мог видеть его сквозь массивную кованую решетку, с другой – дорогу преграждала тяжелая железная дверь, не имевшая ни глазка, ни звонка, ни, что совсем уж было странно, даже отверстия для ключа, – и только через полчаса поисков он сообразил, что нужно войти в обычный, как бы жилой на вид, подъезд низкорослого желтого домика и, пройдя его насквозь, выйти во двор. Отчего-то мысль позвонить местному коллеге (телефон у него был) и затребовать инструкций, а то и провожатого, была ему неприятна – может быть, он боялся насмешек, а может быть, просто хотел продлить ощущение чистого одиночества, так редко ему достающегося в сменившихся обстоятельствах.
Флигелек был толстостенный, приземистый, словно отчасти вросший в землю, как былинный богатырь, какой-нибудь Чурила Пленкович: верно, в прежние времена здесь была барская кухня, или прозекторская, или что-то еще, для чего теперь даже нет названия – какой-нибудь склад чресседельников или лавка, где торговали онучами. Рядом с дверью имелись табличка, звонок и немигающий рыбий глаз видеокамеры; Рудковский позвонил и назвался: в интеркоме захрипело, в двери щелкнуло, и он вошел внутрь.
Здешняя офисная планировка почти полностью повторяла московскую, даром что сам главный зал был поменьше, но зато обладал комплектом хоть и подслеповатых и глубоко утопленных в стенах, но все-таки настоящих окон, сквозь частые переплеты которых лился мутный свет; в московской бывшей фабрике окон не было вовсе. Кроме того, на дальней от входа стене висели неправдоподобно огромные раскидистые оленьи рога, оставшиеся, вероятно, от позапрошлых хозяев (и, как мельком подумалось Рудковскому, подсознательно намекавшие на небезосновательность опасений ревнивой сослуживицы). Впрочем, секундные эти впечатления были сметены валом мыслей, разом им услышанных: из-за скудности внешних событий появление его произвело несоразмерный эффект. В поднявшемся внутреннем шуме, особенно чувствительном на фоне деловитого внешнего безмолвия, трудно было разобрать отдельные голоса – одновременно говорилось «московский», «уволит», «сейчас расскажут про Никодима», «слава богу, не опоздал сегодня, а то вышло бы дельце», «однако вырядился», «запоет Маркович, запоет», «накладные просадил на спирограф», – и вдруг на этом фоне прозвучал как будто раздавшийся въяве, чистый женский голос: «ох, какой красавец… неужели к нам?» Рудковский, не сбиваясь с шагу, поискал глазами, кто бы это мог подумать, не нашел, все-таки споткнулся на какой-то вспухшей сквозь паркет поперечной балке, а за дальним начальственным столом поднимался уже начальник филиала, издалека протягивая ему как бы удлинявшуюся руку со сверкнувшей на манжете бриллиантовой сле-зой запонки.
В ближайшие дни, впрочем, владелица голоса нашлась сама собой: выяснилось, что посещение лекций, которые должен был читать здесь Рудковский, забыли сделать обязательными, так что ходили на них четыре-пять человек: юный карьерист, честно следовавший инструкциям из книги некоего Натаниэля Гирша «Делаясь боссом вмиг»; похожий на увядшую обезьяну старичок, явно мающийся бездельем и старавшийся подольше задержаться на работе; типичный петербуржец по фамилии Вильде – телепень в роговых очках и розовой рубашке, носивший с собой маленькую клетку с ручной канарейкой (порой он приводил с собою близнеца или раздваивался, причем дублировалась и канарейка), – и светловолосая, коротко стриженная, одетая во все черное миниатюрная бледная Дарья Адольфовна Тихоцкая («можно просто Даша»).
Все зерна компьютерной мудрости, которые Рудковский старательно сеял в эту неплодородную почву, немедленно чахли не взойдя: карьерист ел его глазами, не понимая, кажется, ни аза, старичок тихо задремывал, пригревшись, канареечный мужик тянул про себя какие-то псалмы на неизвестном языке, а вот Даша, напротив, думала про себя коротко и ясно, но ее громко звучавшие мысли заставляли Рудковского ежиться и запинаться – столь далеки они были от языков программирования. Иногда она обсуждала сама с собой костюм, в который стоило бы переодеть Рудковского, чтобы выгодно оттенить его внешность, иногда восхищалась какой-нибудь деталью его внешности, вроде крыльев носа или таинственного «козелка», который пришлось, прервав лекцию, срочно смотреть в словаре, а порой просто погружалась в какие-то отрывистые мечтания, в которых Петру Константиновичу отводилась центральная роль. Неудивительно, что на четвертый вечер он пригласил ее на свидание.
Заранее просчитанной неловкости с его стороны не вышло: ее чистый, чуть хрипловатый голос, которым она выговаривала слова так тщательно, словно работала на радио, почти заглушал ее же собственные мысли – и к концу вечера замерзший, размякший и взволнованный Рудковский понял, что в ментальном смысле он почти оглох. Почтительно распрощавшись с Дашей у ее парадного (она жила в одном из дальних закоулков Петроградской стороны, в старинном доходном доме, и над чудом уцелевшей тяжелой входной дверью светился, мигая, старинный витраж, изображающий встающее солнце цвета яичного желтка) и шагая в гостиницу по безлюдным улицам, он прислушивался к ватной тишине, одновременно ликуя и сокрушаясь по утраченному дару. Ближайшие дни показали, что телепатические способности не полностью оставили его: они накатывали волнами, то в полной мере возвращаясь (отчего иногда, особенно в автобусе или трамвае, ему хотелось заткнуть уши), то опять снижаясь до нуля, причем последнее обычно происходило в присутствии его новой подруги.
Странным она оказалась существом! О себе она почти ничего не рассказывала, ловко уклоняясь от расспросов, а когда всплывала вдруг случайно, в общем разговоре, какая-то деталь, она оказывалась настолько неправдоподобно экзотической, что поверить в нее было мудрено. Рудковский спокойно снес существование брата в Тасмании (и ему, бывшему отличнику, не пришлось даже справляться с географическим атласом), не моргнув глазом выслушал про передающуюся в роду по женской линии странную патологию, из-за которой сердце у всех ее родственниц, не исключая и ее саму, находится справа, но почему-то никак не смог поверить, когда она – тоже по какой-то ассоциации вскользь сообщила ему без всякого хвастовства, а просто констатируя, что была чемпионом области по стрельбе из лука.
В этот день они отчего-то гуляли на дальних оконечностях той же Петроградки – вдоль Аптекарской набережной, одной из самых скучных и заброшенных в городе, – и виден был уже впереди какой-то плоский мост, словно собранный из чудовищно увеличенных кубиков лего, водруженных на два облезлых краснокирпичных быка. И здесь среди этого унылого, совсем не открыточного вида она, усмехнувшись, взяла его за руку своей маленькой, горячей, даже обжигающей ладонью и спешно повела через ряды каких-то приземистых домов, обнесенных коваными решетками (на краю сознания он задумался, предназначены эти ограды, чтобы предохранить от нашествия чужаков или чтобы не разбежались обитатели) к одному особенно приземистому и особенно унылому зданию, где за дверью без таблички оказался стрелковый клуб и где ее действительно все знали, и здоровались, и расспрашивали, отчего она так редко приходит, и поглядывали на него с ироническим одобрением. Словно сосредоточенный светловолосый амур, она, прищурившись, медленным движением натягивала тетиву, которая вдруг музыкально зазвенела, отторгая стрелу. Бумажная мишень, пригвожденная, затрепетала; Даша повернула к нему сияющее лицо, и он почувствовал, как другой, настоящий амур, пронзил в эту секунду его сердце, которое, как у обычных смертных, располагалось слева.
По молчаливому уговору на работе их отношения внешне остались прежними: он продолжал вести свои ежедневные малолюдные лекции; она все так же приходила на них и внимательно его слушала, после чего они выходили порознь и десять минут спустя встречались в маленькой, на три столика, кофейне, где никогда не было ни одной живой души, кроме хозяина, улыбчивого горбуна в клетчатом берете, который с третьего раза, уже не переспрашивая, варил двойной эспрессо для него и латте на миндальном молоке для нее.
Между ними сделалось то редкое, почти невозможное согласие, которое порой нисходит на некоторые, ничем иным не примечательные пары после десятилетий общей жизни – как будто все главное было уже давно и прочно решено и осталось обсудить лишь небольшие, но чувствительные детали: где в будущей их общей квартире (которая наподобие воздушного замка виделась уже в подробностях) повесить колчан и как назвать их первую общую собаку. Единственная черная тучка омрачала для него их лучезарное небо: он, свободно признававшийся в своих юношеских грехах и неудачных романах, никак не мог завести разговора о таинственном даре, который между тем явно выдыхался с каждым днем: голоса отступали, делались невнятными и уходили в ту костяную тишину, в которой они и пребывают почти все время. Но однажды, ощутив какую-то особенную игру лучей и почувствовав прилив признательного вдохновения, он спросил у нее: «Кстати, а ты не помнишь, что ты подумала в тот день, когда мы познакомились – ну вот я открыл дверь и вошел, да?» – «Ну, конечно, помню, – отвечала она смеясь. – Я подумала – ты ведь не обидишься, да? – господи, какой страшненький – неужели это его собираются взять на мое место?»