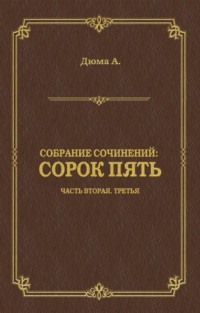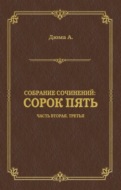Buch lesen: "Сорок пять. Часть вторая, третья"
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», комментарии, 2009
Часть вторая
XLVI
Аллея в три тысячи шагов
Королева жила в другом крыле замка, расположенном почти так же, как и то, откуда только что вышел Шико. С этой стороны всегда слышалась музыка, всегда виднелся какой-нибудь султан на шляпе. Знаменитая аллея в три тысячи шагов, о которой так много говорили, начиналась у самых окон Маргариты, и зрение ее останавливалось на предметах только приятных – цветниках, беседках и прочем.
Можно сказать, что несчастная королева старалась зрелищем этих предметов прогнать мрачные мысли, тревожившие ее дух. Один перигорский поэт (Маргарита в провинции, как и в Париже, была звездой поэтов) написал по этому случаю в своем сонете: «Она хочет постоянным развлечением своего ума прогнать печальные воспоминания».
Рожденная у подножия трона, дочь, сестра и жена короля, Маргарита в самом деле страдала. Ее философия, которую она старалась высказывать, была слабее философии короля наваррского – тот растил ее в глубине души. Несмотря на свою философию, Маргарита допустила, чтобы время и горести провели на ее лице резкие черты. Она все еще была замечательно хороша. Ее красота выигрывала теперь более благодаря выражению лица, которое не останавливает внимания в людях обыкновенных, но нравится у людей знаменитых, которым всегда с охотой приписывают физическое превосходство. У Маргариты была ласковая, приятная улыбка; глаза влажны и блестящи, движения ловки и грациозны, – да, она все еще заслуживала звания прекрасной.
В Нераке ее обожали: она привезла туда изящество, веселье, жизнь. Провинциалы понимали, на какую жертву идет парижская принцесса, с терпением перенося пребывание в провинции. Ее двор состоял не из одних дворян и придворных дам – весь народ любил ее как королеву и как женщину, и гармонические звуки ее флейт и скрипок были доступны всем. Она так умела распоряжаться временем, что каждый день приносил ей что-нибудь новое и ни один не был потерян для тех, кто ее окружал.
Ненавидя своих врагов, она выжидала случая, чтобы лучше отомстить им. Инстинктивно чувствуя намерения Генриха, прикрытые личиной беспечности и великодушия, без родных, без друзей, Маргарита привыкла жить любовью, может быть даже не истинной, и заменять семью, супруга и друзей поэзией и интригами.
Никто, кроме Екатерины Медичи, кроме Шико и нескольких меланхолических теней, если бы они могли возвратиться из мрачного царства, не мог сказать, отчего щеки Маргариты побледнели, какие неизвестные горести туманили ее глаза, отчего, наконец, это глубокое сердце стало пусто и эта пустота отражается в ее взгляде, прежде столь выразительном.
Маргарита не имела больше поверенных для своих тайн.
Бедная королева и не желала иметь их с того времени, как прежние продали за деньги ее доверие и честь. Она шла по жизненному пути одиноко, и это, может быть, удвоило в глазах наваррцев величие ее положения, которое только подчеркивало ее одиночество. Впрочем, сознание нерасположения к ней Генриха было в ней безотчетно и происходило, скорее, от ее собственного сознания своих поступков, потому что Беарнец не сделал в отношении нее ничего такого, что могло бы родить подобную уверенность. Генрих уважал в ней дочь Франции; если говорил с ней – то всегда чрезвычайно уклончиво и вежливо, изысканно и любезно; он был для нее скорее братом, чем супругом.
Итак, наваррский двор, при таких отношениях короля к королеве, производил впечатление организма чрезвычайно гармоничного и нравственно и физически. Эти размышления пробудились при виде неракского двора в Шико, одном из самых наблюдательных и пытливых людей того времени.
Он зашел прежде во дворец, но не нашел там никого. Ему сказали, что он может найти Маргариту в конце той прекрасной аллеи, что идет параллельно реке. И Шико отправился в эту прекрасную аллею, которая простиралась на три тысячи шагов. Пройдя две трети аллеи, он увидел в конце ее, среди жасминов, дрока и клематисов, блестящую группу – разноцветные банты, перья, шпаги… Все эти наряды, быть может не в последнем вкусе, а сделанные по устаревшей моде, в Нераке были ослепительны. Сам Шико, приехавший прямо из Парижа, казалось, нашел двор Маргариты удовлетворительным.
Маргарита, чьи взоры блуждали с обычным беспокойством меланхолических сердец, узнала пажа, предшествовавшего господину Шико, и позвала его:
– Кого тебе, д’Обиак?
Молодой человек, можно сказать ребенок, потому что ему было не более двенадцати лет, покраснел и преклонил колено перед Маргаритой. Шико неподвижно стоял шагах в двадцати от нее.
– Ваше величество, – произнес он по-французски, ибо королева изгнала провинциальное наречие из разговоров при дворе и в деловых сношениях, – один парижский дворянин, присланный из Лувра к его величеству королю наваррскому и направленный королем к вам, желает говорить с вашим величеством.
Прекрасное лицо Маргариты озарилось неожиданным огнем. Она обернулась с живостью и с тем тягостным чувством, которое при всяком случае проникает в сердца, давно уже разбитые. Ее зоркие глаза тотчас узнали знакомого – по виду и силуэту: Шико ясно обрисовывался на красноватом небе. Она покинула кружок, который собрался около нее, и пошла к Шико, вместо того чтобы пригласить его приблизиться. Обернувшись к оставшимся, чтобы проститься с ними, она сделала знак кончиками пальцев самому красивому дворянину, роскошнее других одетому. Прощаясь со всеми, она простилась только с одним. Но того, казалось, не успокоил этот прощальный знак. Маргарита заметила это.
– Господин Тюренн, потрудитесь сказать этим дамам, что я сию минуту возвращусь.
Красивый дворянин в белом камзоле поклонился просто, но не как равнодушный придворный. Королева быстро подошла к Шико, наблюдавшему за этой сценой, столь согласной с содержанием письма Генриха III.
– Господин Шико! – вскрикнула удивленная Маргарита.
– У ног вашего величества, – произнес Шико, – такой же доброй и прекрасной королевы в Нераке, как и в Париже.
– Каким чудом вы так далеко от Парижа?
– Извините, сударыня, но мысль совершить это чудо пришла, конечно, не бедному Шико.
– Я думала, – впрочем, все это говорили, – что вы умерли.
– Я сам распустил этот слух.
– С чем же вы к нам, господин Шико? Неужели я так счастлива, что во Франции еще не забыли о королеве наваррской?
– О сударыня, – Шико улыбался, – таких королев, как ваше величество, не забывают во Франции.
– Так в Париже люди все так же любезны?
– Король французский, – добавил Шико, не отвечая на вопрос Маргариты, – даже писал на этот счет королю наваррскому.
Маргарита покраснела:
– Писал?
– Да, ваше величество.
– И вы привезли это письмо?
– Не привез – по причинам, которые объяснит вам король наваррский, но выучил наизусть и повторил его величеству слово в слово.
– Понимаю: содержание письма было очень важным, и вы боялись его потерять или чтобы его не украли у вас?
– Точно так, ваше величество. И письмо было написано латынью.
– О, прекрасно! – воскликнула королева. – Я знаю по-латыни.
– А его величество, ваш супруг, знает этот язык?
– Любезный Шико, очень трудно судить, что знает и чего не знает король наваррский.
– А! – Шико был доволен, что не он один старается разгадать эту живую загадку.
– Если верить внешности, – продолжала Маргарита, – так он знает его дурно, потому что никогда не понимал или показывает, что не понимает, когда я говорю с кем-нибудь на этом языке.
Шико закусил губу.
– Ах, черт возьми! – пробормотал он себе под нос.
– Вы прочли ему это письмо?
– Оно было прислано ему.
– И он показал, что понял?
– Только два слова.
– Какие?
– Turennius и Margota.
– Turennius и Margota? – повторила Маргарита.
– Да. В письме есть эти два слова.
– Что же он?
– Послал меня к вам, государыня.
– Ко мне?
– Да. И сказал при этом, что письмо, вероятно, содержит вещи слишком важные, чтобы их доверить для перевода постороннему, и гораздо лучше, если переведете вы, прекраснейшая из ученых и ученейшая из прекрасных.
– Я готова выслушать вас, господин Шико, если таково повеление короля. – Маргарита слегка встревожилась.
– Угодно вашему величеству слушать меня здесь?
– Нет, не здесь – пойдемте в мой кабинет.
Маргарита пристально смотрела на Шико, который, из жалости скорее всего, открыл часть истины.
– Виконт, – обратилась она к Тюренну, – вашу руку! Господин Шико, идите впереди нас, прошу вас!
Бедная женщина чувствовала необходимость опоры, последнего взгляда любви, может быть, прежде чем подвергнуть себя испытанию, которое ей угрожало.
XLVII
Кабинет Маргариты
Мы описали аллею в три тысячи шагов и кабинет Генриха Наваррского, так что читатели не осудят нас, если мы опишем и кабинет Маргариты. Снаружи он имел множество потайных дверей, сообщавшихся с особыми или с проходными комнатами. Окна, молчаливые, как и двери, были снабжены ставнями, запиравшимися столь же бесшумно.
Внутри – модная мебель, ковры в последнем вкусе, картины, фаянс, дорогое оружие, греческие, латинские и французские книги, манускрипты на столах, птицы в клетках, собаки на коврах, наконец, целый мир зверей, птиц и растений: все это жило одной жизнью с Маргаритой.
Люди с возвышенной душой или избытком жизненных сил не могут пребывать одни: каждое свое чувство, каждое желание они сопровождают всем, что находится в гармонии с ними и что их притягивающая сила вовлекает в вихрь их существования, – в отличие от людей обыкновенных, они усиливают свои чувства и удваивают жизнь. Королева так умело управляла отпущенным ей временем, что из тысячи горестей умудрялась извлекать одну радость. Это отступление доказывает ясно как божий день необходимость описания кабинета Маргариты.
Шико пригласили сесть в красивое мягкое кресло, обитое шелком с вытканным амуром, сыплющим груды цветов. Юный паж – не д’Обиак, но другой, гораздо богаче одетый и еще более привлекательной наружности, – предложил освежающего вина. Шико отказался и, когда виконт Тюренн ушел, стал излагать наизусть письмо короля Франции и Польши.
Мы читали письмо вместе с Шико, следовательно, бесполезно представлять его в латинском переводе. Шико коверкал и выговаривал слова самым чудным образом, чтобы королева дольше не могла понять содержания. Но, как ни искусно он изменял свое творение, Маргарита ловила смысл на лету и не скрывала негодования и гнева.
По мере чтения Шико все более испытывал затруднительное положение, созданное им для себя. В некоторых местах он опускал глаза, чтобы не видеть блеска глаз королевы и ее судорожных движений при таких откровенных обличениях ее супружеских преступлений.
Маргарита знала утонченное коварство брата – она имела так много случаев в нем убедиться. Эта женщина не обманывала себя – она понимала, сколько пищи доставила она его злобе. Вот почему по мере чтения в душе ее рождался справедливый гнев вместе с весьма обоснованным страхом за себя. Негодуя и не доверяя возникающим предположениям, необходимо было постараться избежать опасности, удалив ее причину, доказать несправедливость подозрений. Об этом размышляла Маргарита во время чтения.
Не надо думать, что Шико все время говорил опустив голову – он поднимал то один глаз, то другой и убедился – или догадался по нахмуренным бровям королевы: она на что-то решается. И потому он дочитал письмо короля довольно спокойно.
– Клянусь, – произнесла королева, когда Шико умолк, – братец прекрасно пишет по-латыни! Какая пылкость! Какой слог! Не ожидала от него таких познаний.
Шико поднял очи к небу и развел руками с видом человека, который соглашается из вежливости, но не понимает.
– Вы не поняли? – Королеве все языки, даже и язык мимики, были известны. – А я вас считала хорошим латинистом, господин Шико.
– Ваше величество, я все забыл. Что теперь осталось от моего знания, так вот только: латинский язык не имеет грамматического члена, имеет звательный падеж и «голова» в нем среднего рода.
– А, в самом деле! – вскричал кто-то, весело и шумно входя в комнату.
Шико и королева разом обернулись: то был король наваррский.
– Как, – Генрих приблизился, – «голова» по-латыни среднего рода, господин Шико? А почему же не мужского?
– Ах, государь, – отвечал Шико, – я удивляюсь этому не меньше вашего величества.
– И меня тоже, – призналась Маргарита в задумчивости, – это удивляет.
– Так и должно быть! – пошутил король. – Ведь голова может принадлежать и мужчине и женщине.
– Лучшего объяснения, государь, – Шико поклонился, – мне не приходилось еще слышать.
– Вот и хорошо! Приятно сознавать, что философствуешь глубже и правильнее, чем полагал. А теперь вернемся к письму. Итак, государыня, я сгораю от нетерпения узнать новости французского двора. Не привези их господин Шико на неизвестном мне языке, тогда…
– Тогда… – повторила Маргарита.
– Тогда мне уже было бы очень весело! Вы знаете, как я люблю новости, и в особенности скандальные, – их так искусно умеет рассказывать Генрих Валуа. – И Генрих Наваррский сел, потирая руки. – Ну, любезный Шико, – продолжал он, будто заранее приготовясь хохотать, – вы прочли это письмо моей жене?
– Я исполнил ваше повеление!
– Итак, мой друг, скажите, что содержит это письмо?
– Не боитесь ли вы, государь, – сказал Шико, успокоенный несколько свободою, пример которой показывали коронованные супруги, – что латинский язык, на котором написано послание, предвещает дурное?
– Э, отчего же? – И король обратился к жене: – Что же, сударыня?
Маргарита подумала с минуту, как будто припоминая письмо.
– Наш посол прав, государь, – подтвердила она решительно, – латинский язык – дурное предсказание.
– Как! – произнес Генрих. – Это прекрасное письмо заключает дурные предсказания? Берегитесь, мой друг! Король, брат ваш, хорошо знает этот язык и очень вежлив.
– Даже если приказывает оскорблять меня в моих носилках, как это случилось за несколько лье от Санса, когда я поехала из Парижа к вам, государь?
– Если брат строгих правил, – начал Генрих полусерьезным, полушутливым тоном, – если брат-король сварлив, то…
– Он должен быть таким для истинной чести своей сестры и семейства? Не думаю. Неужели, государь, если бы сестра ваша, Екатерина д’Альбре1, была жертвой какой-нибудь сплетни, вы приказали бы разузнать, в чем дело, капитану вашей гвардии?
– О, я человек патриархальный и снисходительный, я не король или если и король, так только для смеха. Я и смеюсь. Но наше письмо? Я хочу знать его содержание, потому что оно адресовано на мое имя.
– Это письмо вероломного человека, государь.
– О!..
– Да, оно содержит клевету, способную поссорить не только мужа с женой, но друга со всеми его друзьями.
– О! О!.. – Генрих выпрямился и изобразил на своем обыкновенно ясном, открытом лице выражение недоверчивости. – Поссорить мужа с женой? Не меня ли с вами?
– Вас со мною, государь!
– Каким образом, друг мой?
Шико был как на иголках – он дорого бы дал, хотя ему очень хотелось есть, чтобы уйти и лечь спать, пусть без ужина. «Буря разражается!» – шептал он про себя.
– Государь, – королева сохраняла спокойствие, – я очень жалею, что вы забыли латынь. Однако вы учились, кажется, этому языку.
– Из всей латыни я помню только эту фразу: «Deus et virtus aeterna»2 – странное сочетание мужского, женского и среднего родов, чего мой учитель не мог никак объяснить без помощи греческого языка, а я его понимаю еще меньше, чем латинский.
– Государь, если вы поймете, то увидите, что письмо наполнено всевозможными комплиментами, относящимися ко мне.
– Очень хорошо, – одобрил король.
– Optime3,– добавил Шико.
– Но отчего же эти любезности могут поссорить меня с вами? Если в письме комплименты, то я одного мнения с братом Генрихом. Если же в этом письме говорится о вас дурно – тогда другое дело, и я понимаю политику моего брата.
– А если говорится обо мне дурно, то вы понимаете политику Генриха?
– Да, политику Генриха Валуа. Он имеет побудительные причины ссорить меня с вами.
– Все эти комплименты, государь, не что иное, как вкрадчивое вступление к клевете на ваших и моих друзей.
После этих смело произнесенных слов Маргарита готовилась выслушать возражение.
Шико совсем повесил нос. Генрих только плечами пожал.
– Подумайте хорошенько, так ли вы перевели и есть ли подобное намерение в письме вашего брата?
Как ни кротко прозвучали эти слова, Маргарита посмотрела на мужа недоверчиво.
– Выслушайте до конца, государь.
– Бог свидетель, я только этого и хочу.
– Посмотрим. Имеете вы надобность в слугах или нет?
– Имею ли я в них надобность, друг мой? Хороший вопрос! Что бы я стал без них делать?
– Так вот, король хочет разлучить вас с лучшими из ваших подданных.
– Не верится мне что-то…
– Браво, государь! – прошептал Шико.
– Э, конечно! – отвечал Генрих с тем изумительным простодушием, ему одному свойственным, перед которым до конца его жизни никто не мог устоять. – Те, кто у меня служит, привязаны ко мне не из выгоды, а по расположению. Мне нечего дать им.
– Вы отдали им свое сердце, государь, – это лучшая награда короля за расположение друзей.
– Да, мой друг. Итак?
– Итак, государь, не верьте им больше.
– Помилуй бог! Если они сами меня к тому принудят, но без этого…
– Хорошо, государь. Но если вам покажут их проступки?
– А! А как докажут и чем?
Шико снова опустил голову, как делал в затруднительные мгновения.
– Я не могу вам рассказать этого, государь, не подвергаясь позору… – И она посмотрела вокруг себя.
Шико понял, что стесняет королеву, и отступил назад.
– Любезный посол, – обратился к нему король, – потрудитесь подождать меня в моем кабинете. Королева хочет сказать мне что-то секретное – что-то касающееся моих подданных, как я полагаю.
Маргарита осталась почти неподвижна и только слегка кивнула головой. Видя, что супругам без него будет легче объясниться, Шико встал и оставил комнату, поклонившись сразу королю и королеве.
XLVIII
Примирение посредством перевода
Удалить очевидца, которого Маргарита считала гораздо более сведущим, чем он сам признавался, было победой или, скорее, залогом безопасности королевы. Маргарита, как мы сказали, считала Шико довольно ученым, а наедине с мужем она могла свободно менять смысл латинских слов, дополняя их примечаниями, которых не придумают все земные схоласты.
Итак, Генрих и его жена имели удовольствие остаться наедине. На лице короля не было ни тени беспокойства, никакого признака угрозы. Решительно король не знал латыни.
– Государь, – первой нарушила молчание Маргарита, – я жду ваших вопросов.
– Это письмо очень вас занимает, друг мой. Стоит ли из-за него тревожиться?
– Государь, это письмо должно было бы иметь следствием своим важные перемены: короли не посылают друг к другу послов без важных причин.
– Ах, оставим их – и послов и посольство, друг мой. Лучше скажите: не предполагаете ли вы устроить сегодня вечером что-нибудь вроде бала?
– Предполагаю, государь, – отвечала изумленная Маргарита, – но только ничего необыкновенного – вы знаете, мы танцуем почти каждый вечер.
– А я отправлюсь завтра на охоту, на великую охоту.
– А!
– Да, на охоту за волками.
– Каждому свое удовольствие, государь: вы любите охоту, я – балы. Вы охотитесь – я танцую.
– Да, мой друг, – Генрих вздохнул, – и поистине в этом нет ничего дурного.
– Конечно, но вы, ваше величество, произнесли это со вздохом.
– Выслушайте меня.
Маргарита вся обратилась в слух.
– Меня беспокоит…
– Что беспокоит вас, государь?
– Молва.
– Молва? Ваше величество беспокоит молва?
– Что ж, это легко объяснимо, в особенности если эта молва может причинить неприятность вам.
– Мне?
– Да, вам.
– Государь, я вас не понимаю.
– Вы ничего не слышали? – произнес Генрих тем же тоном.
Теперь Маргарита действительно испугалась: она решила, что это новый способ нападения со стороны супруга.
– Я самая нелюбопытная из всех женщин, государь, и не слушаю никогда, что шепчут мне на ухо. Впрочем, я так мало обращаю внимания на слухи, что, даже когда до меня что-то доходит, затыкаю уши.
– Так ваш совет – пренебрегать этой молвой, этими слухами?
– Непременно, государь, короли в особенности должны презирать их.
– Почему короли в особенности?
– Потому, что наши имена можно услышать во всех пересудах, и было бы слишком хлопотно принимать все близко к сердцу.
– Чудесно! Я думаю, вы правы, мой друг, и готов привести превосходный случай для приложения вашей философии к жизни.
«Наступает решительная минута!» – подумала Маргарита и, призвав все свое мужество, довольно твердым тоном заявила:
– Очень приятно, государь.
Генрих начал как кающийся, которому приходится признаваться в тяжком грехе:
– Вы знаете, как занимает меня участь Фоссез?
– А! – воскликнула Маргарита, видя, что речь не о ней самой, и переспросила: – Маленькой Фоссез, вашего друга?
– Да, – отвечал Генрих все тем же тоном, – маленькой Фоссез.
– Моей фрейлины?
– Вашей фрейлины.
– Вашей страсти, вашей любви?
– Ну вот! Вы начинаете повторять один из тех слухов, которые сейчас осуждали.
– Правда, государь, – Маргарита улыбнулась, – смиренно прошу у вас прощения.
– Друг мой, вы правы – молва лжет часто, и нам, королям, в особенности необходимо превратить эту теорему в аксиому… Помилуй бог! Кажется, я заговорил по-гречески! – И Генрих захохотал от души.
Маргарита в этом шумном смехе и особенно в лукавом взгляде, его сопровождавшем, прочла насмешку. Беспокойство опять закралось в ее душу.
– Так, Фоссез?..
– Фоссез больна, друг мой, и доктора не понимают ее болезни.
– Это странно, государь. Фоссез, которая, по словам вашего величества, осталась такой же чистой; Фоссез, которая, как я от вас слышала, сопротивлялась бы королю, если бы король говорил ей о своей любви; Фоссез – этот цветок чистоты, этот прозрачный кристалл – должна позволить взору науки проникнуть в глубину ее радостей и горестей!
– Увы, теперь это не так! – печально произнес Генрих.
– Как! – вскричала королева в злорадном порыве, ибо даже самая снисходительная женщина не устоит перед искушением уколоть другую женщину. – Фоссез уже не цветок чистоты?!
– Я этого не сказал, – сухо отвечал Генрих. – Сохрани меня бог обвинять кого-нибудь. Я говорю, что дочь моя Фоссез впала в болезнь, которую хочет скрыть от своих медиков.
– Положим, от медиков, но не от вас, ее поверенного, ее отца… Это мне кажется странным.
– Я знаю не более других, друг мой. – Генрих опять ласково улыбался.
– Итак, государь, – Маргарита по обороту, принятому разговором, поняла, что преимущество на ее стороне и прощения ждут от нее, а не она должна его вымаливать, – объяснитесь: я не знаю, чего желает ваше величество.
– Ну, что же, если хотите, я расскажу вам все.
Маргарита сделала движение, показавшее, что она готова слушать.
– Надо бы… – продолжал Генрих. – Но нет – это значит требовать от вас слишком много, друг мой…
– Говорите, государь, говорите.
– Надо бы вам навестить дочь мою Фоссез.
– Мне навестить эту девушку, которую все называют вашей любовницей, чего вы и сами не отрицаете?!
– Тише, тише, друг мой! Клянусь честью, подобными восклицаниями вы можете вызвать скандал, и я не знаю хорошенько, не доставите ли вы этим удовольствие французскому двору, потому что в письме моего брата Шико читал: «quotidie scandalum», что даже такому неучу, как я, понятно: «каждодневный скандал».
Маргарита вздрогнула.
– Для этого не надо знать по-латыни, это почти по-французски, – заключил Генрих.
– Но, государь, к кому могут относиться эти слова?
– Вот это-то для меня и загадка. Но вы поможете мне, друг мой, – вы так хорошо знаете языки.
Маргарита покраснела до ушей, тогда как Генрих, опустив голову, с рукой возле лба, казалось, искал, к кому из его придворных могло относиться quotidie scandalum.
– Хорошо, – проговорила королева, – вы хотите ради нашего примирения принудить меня к унизительному поступку. Во имя этого я повинуюсь.
– Благодарю, друг мой, благодарю.
– Но какая цель этого посещения?
– Самая простая.
– Надо же мне ее знать, если я не могу догадаться.
– Вы найдете Фоссез среди фрейлин, в постели, в их комнате. Эти женщины, вы знаете, очень любопытны и болтливы и могут довести ее до крайности.
– Стало быть, она боится чего-нибудь?! – воскликнула Маргарита с удвоившимся гневом и ненавистью. – Она хочет укрыться от них?..
– Не знаю. Знаю только, что ей необходимо покинуть комнату фрейлин.
– Если она хочет скрыться, так на меня ей нечего рассчитывать. Я могу смотреть сквозь пальцы на некоторые вещи, но никогда не стану соучастницей. – Маргарита ждала, какое действие произведут эти слова.
Но Генрих, казалось, ничего не слышал: он опустил голову и принял тот задумчивый вид, который поразил Маргариту за минуту перед этим.
– Margota, – говорил он. – Margota cum Turennio. Вот странное соединение двух имен – Margota cum Turennio.
Маргарита теперь побагровела.
– Клевета, государь! – воскликнула она. – Вы повторяете клевету!
– Какая клевета? – произнес Генрих самым естественным тоном. – Разве вы считаете это клеветой? Просто одна фраза из письма моего братца пришла мне на память: «Margota cum Turennio conveniunt in castello nomine Loignac». Решительно надо заставить кого-нибудь перевести это письмо.
– Оставьте эту игру, государь. – Маргарита содрогнулась. – Скажите мне прямо: чего вы от меня ждете?
– Я желаю, чтобы вы отделили Фоссез от прочих фрейлин и, поместив ее в особую комнату, прислали ей скромного, неболтливого врача, например хоть вашего.
– О, теперь я вижу, в чем дело! – воскликнула королева. – Фоссез, хваставшаяся добродетелью, готовится произвести на свет плод своей любви!
– Я не говорю этого, друг мой, не говорю. Это вы утверждаете.
– И утверждаю справедливо, государь! Исправляйте сами ошибки Фоссез! Вы ее сообщник, это ваше дело: не невинная, а преступная, она должна быть наказана.
– «Преступная»! Вы мне напоминаете опять это ужасное письмо.
– Каким образом?
– Да ведь «преступный» по-латыни nocens, так?
– Да, nocens.
– Ну а в письме сказано: «Margota cum Turennio, ambo nocentes, conveniunt in castello nomine Loignac». Боже мой, как жаль, что мои познания не так богаты, как тверда память.
«“Ambo nocentes”…– повторила про себя Маргарита, сделавшись бледнее своей кружевной манишки. – Он понял, понял все!»
– «Margota cum Turennio ambo nocentes». Какого черта хотел сказать мой братец этим ambo? – немилосердно продолжал Генрих Наваррский. – Помилуй бог! Мой друг, странно, что при ваших познаниях вы до сих пор не объяснили мне значения этой фразы.
– Государь, я имела уже честь сказать вам…
– Э, черт возьми! – прервал король. – Вон Туренниус – один прогуливается под вашими окнами и смотрит вверх, как будто поджидая вас. Позову его сюда: он очень учен и, может быть, объяснит то, что я хочу знать.
– Государь, государь! – воскликнула Маргарита, вскакивая с кресла и складывая руки. – Будьте выше всех этих клеветников и сплетников Франции!
– Друг мой, в Наварре люди так же не снисходительны, как и во Франции. Кажется, вы сами сию минуту… были очень суровы в отношении бедной Фоссез.
– Я – сурова?!
– Вы забыли! Здесь, однако, мы должны быть снисходительны, сударыня. Мы ведем такую сладкую жизнь: вы – на своих балах, я – на любимой охоте.
– Да, да, государь, вы правы – будем снисходительны!
– О, я был уверен в вашей доброте, друг мой!
– Вы хорошо знаете меня, государь.
– Да. Итак, вы навестите Фоссез?
– Да, государь.
– Отделите ее от прочих фрейлин?
– Да.
– И никаких сиделок? Врачи скромны по своему положению, сиделки болтливы по привычке и по природе.
– Это правда, государь.
– И если, по несчастью, слухи справедливы и бедная девушка была действительно слаба и пала… – Генрих поднял глаза к небу, – что очень возможно: женщина слаба, говорит Писание…
– Что ж, государь, я женщина и умею быть снисходительной к другим женщинам.
– Ах, вы умеете все, мой друг, – вы поистине образец совершенства и…
– И?..
– Позвольте поцеловать ваши руки.
– Но знайте, государь, что я приношу эту жертву только из любви к вам.
– О, я знаю вас хорошо, и мой брат Генрих Третий, который наговорил вам так много лестного в своем письме, прибавляет: «Fiat sanum exemplum statim, atque res certior eveniet»4. Это, без сомнения, тот пример, который вы подаете теперь. – И Генрих поцеловал ледяную руку жены. Потом, остановясь на пороге, прибавил: – Обласкайте за меня Фоссез и займитесь тем, что вы обещали. Может быть, я не успею увидеться с вами до возвращения с охоты. Может быть, даже никогда… Эти волки – самые злые животные. Дайте я вас поцелую, друг мой. – Он поцеловал Маргариту почти с нежностью и вышел, оставив ее в изумлении от всего услышанного.