Неповторимое. Том 3
Text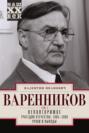


Zum Hörbuch
- Größe: 1470 S.
- Kategorie: Biografien und Memoiren, Sachbücher
Глава 3
Коллегия министерства обороны СССР
О министре обороны и ближайших его соратниках. – О заместителях министра обороны, в том числе главкомах видов ВС. – Молодая струя в коллегии Министерства обороны. – Стычки министра обороны с командующими. – Горбачев приближает к себе начальника Генштаба. – Научно-практическая конференция обнажила ошибочность взглядов Генштаба. – Мое заявление о предстоящем крахе Варшавского договора и реакция коллегии Министерства обороны
В мою бытность Главнокомандующим Сухопутными войсками министром обороны СССР был генерал армии, а затем Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Это опытный и высоко подготовленный офицер. Участник Великой Отечественной войны. Имеет ранение, награды за войну. Так сложились обстоятельства, что на определенном этапе мы служили с ним в Ленинградском военном округе: он был начальником отдела в Управлении боевой подготовки – после того, как откомандовал отдельной мотострелковой бригадой на Кубе, а я – командиром 54-й мотострелковой дивизии, которая дислоцировалась в заполярном городе Кандалакше, что на юге Кольского полуострова. С этих должностей нас направили учиться в Военную академию Генерального штаба, где мы познакомились очень близко – были в одной группе. Характерной чертой слушателей нашей группы (может, за исключением двух человек) была исключительно самостоятельность в мышлении и способность обосновывать и отстаивать свое решение. К этой категории относится и Дмитрий Тимофеевич Язов. По окончании академии он успешно командовал дивизией в Забайкальском военном округе, причем отлично ее обустроил, создал прекрасные условия жизни для офицеров и их семей. Как мы подшучивали позже, не изменил только климат. А климат в Забайкалье фактически самый суровый. Неспроста царь сослал декабристов на каторгу именно туда.
Затем он командовал корпусом и армией, но в уже более благоприятных условиях. По семейным обстоятельствам работал некоторое время в центральном аппарате (начальником Первого управления в Главном управлении кадров). Затем его послужной список выглядит так: первый заместитель командующего Дальневосточным военным округом, командующий Центральной группой войск, командующий войсками Средне-Азиатского военного округа и, наконец, командующий войсками Дальневосточного военного округа.
Думаю, не только военный, но и гражданский человек проникнется уважением к одному только перечню районов, где служил Д.Т. Язов. А если к этому добавить, что свой долг он везде исполнял с достоинством, то, конечно, такой человек заслуживает большого уважения.
Приблизительно через год своего пребывания в должности Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачев посетил Дальний Восток – с 25 по 31 июля 1986 года. Кроме решения других вопросов, 29 июля он посетил войска Дальневосточного военного округа, которыми остался доволен. Естественно, близко познакомился и с командующим войсками генералом армии Д.Т. Язовым, и они друг другу приглянулись. Дело в том, что у нас в стране тогда многое связывали с новым главой государства. Военные – тоже, в том числе и Язов. Неудивительно, что Горбачеву были оказаны почести не просто как генсеку, но и как восходящей звезде. Поскольку Дмитрий Тимофеевич – человек уважительный и обходительный, то это, несомненно, произвело должное впечатление и на самого Горбачева, и на ближайшее его окружение.
Вскоре Д.Т. Язов назначается заместителем министра обороны – начальником Главного управления кадров. Никто этому не удивился – Дмитрий Тимофеевич, на мой взгляд, лучше всех подходил на эту должность, так как прослужил везде – от крайнего запада до крайнего востока, хорошо знал условия и обстановку во всех районах. Кроме того, уже имел опыт работы в кадрах. Но в должности начальника Главного управления кадров он пребывал недолго – события с Рустом на Красной площади явились формальной причиной отстранения от должности министра обороны СССР маршала С.Л. Соколова и руководителей ПВО страны. Вместо Соколова назначается Язов. Вот это в наших кругах, конечно, уже связывали с визитом Горбачева на Дальний Восток. Ведь были военачальники, которые по опыту, заслугам и способностям имели все шансы стать кандидатами на этот пост. Тем более что они уже поднаторели в работе в центральном аппарате, в составе коллегии Министерства обороны или в должности главнокомандующих стратегического направления. Например, генерал армии Н.М. Третьяк, генерал армии Е.Ф. Ивановский – Главнокомандующий Сухопутными войсками, маршал В.Г. Куликов, наконец, главный претендент на этот пост – маршал С.Ф. Ахромеев. В бытность Д.Ф. Устинова этот вопрос обсуждался открыто, и Устинов не скрывал своих намерений в отношении Ахромеева как преемника.
Однако был назначен Д.Т. Язов. В этих условиях каждый считал своим долгом всячески помогать новому министру обороны, дабы тем самым внести вклад в развитие Вооруженных Сил. Так все и действовали. Отношения между Горбачевым и Язовым были достаточно хорошими, и мы считали, что это надо использовать в интересах обороны страны. Однако наши расчеты не оправдались. Горбачев решил эти отношения использовать для ущемления интересов военных и обороны в целом.
Дело прошлое, но мы немало пережили, сочувствуя Дмитрию Тимофеевичу в том, что Горбачев долго «выдерживал» его и не присваивал звания маршала. Уж кто-кто, а министр обороны, конечно, должен иметь это звание. Ведь в этом проявлялось и отношение к Вооруженным Силам.
Однако Дмитрию Тимофеевичу мы даже не делали намеков относительно того, что по некоторым вопросам надо бы оказать давление на Горбачева. До получения им высшего воинского звания не хотели ставить его в сложное положение. Однако и став маршалом, Дмитрий Тимофеевич, на наш взгляд, продолжал действовать по отработанной схеме и инерции. Мы понимали, что сразу не перестроишься, нужно время. Мы ждали. А события показывали, что Горбачев в отношении к Вооруженным Силам и военно-промышленному комплексу совершенно не намерен был что-то изменять к лучшему, между тем уже начались столкновения между министром обороны и командующими войсками военных округов.
Так, на одном из совещаний зашла речь об оценке ситуации в стране в целом и в Вооруженных Силах в частности. Как я понял, Д.Т. Язов в конце одного из совещаний хотел неофициально, «по душам» поговорить с командующими, членами Военного совета, начальниками штабов военных округов и флотов. И вот тут командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа А.М. Макашов задал Д.Т. Язову вопрос:
– Товарищ министр обороны, почему Верховный главнокомандующий не встречается с нами?
– Потому что он занят, – коротко ответил тот.
– Выходит, для других вопросов у него время есть, а для Вооруженных Сил – нет? – не унимался Макашов.
– Да, пока он встретиться не может, – так же сухо и коротко ответствовал Язов.
– Но ведь он нам еще 18 октября прошлого года обещал встречаться два раза в год! – настаивал А.М. Макашов. – Пошел уже второй год, но ни одной встречи не было.
– Еще раз повторяю – у него нет времени.
– Зачем же он тогда обещал? Надо потребовать от него.
– Макашов, если ты и дальше будешь продолжать в этом духе, то я тебя выгоню с совещания, как лейтенанта! – взорвался Язов. – У кого еще есть вопросы?
Какие могут быть вопросы в этой ситуации? Конечно, разговора не получилось. Концовка была скомкана. Ненужная вспышка Язова и его грубое обращение к Макашову оставили у каждого тяжелый осадок, поскольку всем стало ясно, на чьей стороне министр обороны. Это никуда не годилось! Меня подмывало ввязаться в эту историю. Но Язов неожиданно объявил, что совещание окончено, все свободны. Расходились молча. Кое-кто сердито ворчал.
Было ясно, что положение надо поправлять. Этим мы и занимались. Но все дело в том, что в личных беседах Дмитрий Тимофеевич делал выводы и обещал, что он передаст Верховному наши вопросы и озабоченность состоянием дел в армии и на флоте, а потом заверил, что якобы Горбачев все воспринимает правильно и намерен принять меры. Фактически же никаких мер, никаких действий не было, обстановка ухудшалась. Особенно нас беспокоило отсутствие в новых пунктах дислокации материальной базы для выводимых войск и сверхвысокие темпы вывода. Тревожили сепаратизм и межнациональные конфликты в республиках и воровство оружия, свободное присутствие американских советников в руководстве республик (особенно в Прибалтике, а у Ландсбергиса в Вильнюсе это делалось даже вызывающе), ухудшение положения военно-промышленного комплекса, отсутствие мер со стороны руководства страны (но если же меры принимались Москвой, то во вред Вооруженным Силам).
Конечно, у нас не было никаких оснований не верить Дмитрию Тимофеевичу Язову, что он докладывал Горбачеву. Но вот о том, каким образом это докладывалось, у нас были разные мнения. В основном мы склонялись к тому, что тон докладов и просьб носил либерально-просительный характер. Отсюда и все последствия.
Теперь – о других членах коллегии Министерства обороны и кратко о характере каждого.
Первый заместитель министра обороны – генерал армии Константин Алексеевич Кочетов. Полтора десятка лет назад он прибыл в Прикарпатский военный округ командовать 24-й Железной дивизией. Командовал прекрасно. Отсюда он быстро пошел вверх и дослужился до командующего Южной группой войск, командующего войсками Закавказского, а затем Московского военного округов.
Везде служба шла весьма успешно, и поэтому выдвижение на должность первого заместителя министра было вполне естественным. Дело прошлое, но из всех замов и кандидатов на пост министра обороны я отдал бы предпочтение именно Кочетову (разумеется, когда Язов должен был бы уйти в отставку). Прекрасно подготовлен. Хорошо организован. Единственное, что можно было пожелать ему, – еще больше уделять внимания солдатам и особенно офицерам, их жизни и быту. Правда, у меня неприятный осадок оставил наш последний с ним разговор на ходу в Генштабе 22 августа 1991 года, после совещания у генерала армии Моисеева, который был оставлен за министра обороны (Д.Т. Язова Горбачев посадил). Точнее, это был даже не разговор, а всего лишь его, Кочетова, реплика:
– Как же вы, дожив до седых усов, вляпались в эту историю? Ну, то, что они все – Язов и другие, – это понятно. Но вы же разумный человек! И вдруг оказались среди них…
И далее прогнозировал, сколько лет отсидки мне могут дать.
А я слушал и думал: чему же я тебя учил? Видно, мало я уделял внимания тому, чтобы офицеры глубоко осознавали, что Вооруженные Силы созданы во имя народа и обязаны защищать его государственные интересы. Я не мог поверить, что такие умные офицеры, как Кочетов, даже без моего своевременного внушения, заблуждались и не видели, что идет развал Советского Союза…
Армия, безусловно, не могла стоять в стороне от политических событий. Но министру обороны в те августовские дни нужна была поддержка коллегии Министерства обороны. А вместо этого коллегия, по инициативе главкома ВВС Шапошникова, организовала обструкцию министру. И опять в нужный момент я отсутствовал – Язов послал меня к Г.И. Янаеву на заседание ГКЧП в Кремль, а сам решил провести заседание коллегии, совершенно не уделив внимания его подготовке.
Надо было не призывать – «спасайся, кто может», думать не о том, как выпутаться из этой истории, а о том, как спасти страну. Вот сюда взоры коллегии Министерства обороны не повернулись. Все поддались авантюристам типа Шапошникова.
Жаль!
Начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев. Он командовал Дальневосточным военным округом после Язова. И когда Язов стал министром – сразу попросил Горбачева назначить начальником Генштаба М.А. Моисеева, поскольку С.Ф. Ахромеев пошел к Горбачеву советником. Вообще, это был прецедент – начальником Генерального штаба, как правило, назначали опытного командующего войсками военного округа (фронта) или одаренного, с огромным опытом работы в Генштабе, генерала. Михаил Алексеевич в должности командующего войсками пребывал недолго. Весь предыдущий его опыт, конечно, позволял Моисееву со знанием дела рассматривать многие вопросы в войсках. Что касается навыка работы в Генштабе – со временем придет все. М.А. Моисеев на посту начальника Генерального штаба в целом произвел положительное впечатление. Правда, со временем он стал уже больше обращать внимания на руководство страны (особенно на члена Политбюро секретаря ЦК Зайкова), чем на генштабовские заботы. Но, видно, «связи с центром» Генштабу были нужны. Однако мы все больше и больше чувствовали, что действия Генштаба не согласуются с министром обороны. А вскоре и министр обороны стал об этом поговаривать тоже.
В то же время сближение Моисеева с руководителями всех уровней было весьма эффективным. Как-то на торжественном приеме по случаю выпуска (1991) слушателей военных академий, по традиции проводившемся в Кремле, после официальной части, то есть выступлений руководителей и выпускников, состоялось небольшое застолье. Мы с Михаилом Алексеевичем, беседуя, отошли от центрального стола в сторону и завели разговор на будничную тему (торжество торжеством, а жизнь идет). Вдруг к нам подошел Горбачев и, обращаясь к Моисееву, говорит:
– Миша, – сказал он, положив при этом руку ему на плечо, – я думаю, что все твои предложения целесообразно обсудить в узком кругу.
– Я готов в любое время, – ответил Моисеев.
– Что ты готов – это хорошо, но надо еще определиться, с кем это обсуждать…
Чтобы не стеснять их в разговоре и не присутствовать при обсуждении вопросов, которые выходят за рамки моей компетенции, я деликатно отошел в сторону, уловив при этом взгляд Язова, который, находясь в кругу военных, поглядывал, разумеется, за Горбачевым.
Манера обращения Горбачева к Моисееву и его жесты окончательно меня привели к выводу о том, что между ними уже произошло полное сближение: демонстрировать все это прилюдно можно в условиях чуть ли не братства. Они продолжали стоять вдвоем, не обращая ни на кого внимания. Все это видели и, естественно, всё понимали. Что касается самой темы их разговора, то, я думаю, скорее всего, она касалась военных заказов. Главное же было – игра на публику. Важно было продемонстрировать: «Вот какая близость у генсека-президента с начальником Генштаба».
Теперь мне было ясно, почему Д.Т. Язов в канун действий ГКЧП вместо того, чтобы ввести М.А. Моисеева в курс дела, отправил его в отпуск. Видно, не доверял ему. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора – он же первый заместитель министра обороны СССР, Герой Советского Союза, генерал армии Петр Георгиевич Лушев. Это высокоподготовленный, с огромным опытом военачальник. Мы знали друг друга давно – с 1969 года: мне довелось командовать в Группе Советских войск в Германии 3-й Ударной армией, а генерал П.Г. Лушев был первым заместителем командующего армией. С тех пор у нас сложились отличные отношения на почве труда и добросовестного несения службы. Так нас и продвигали. Пока я после Прикарпатского военного округа тянул воз в Генеральном штабе, а потом в Афганистане, Петру Георгиевичу удалось покомандовать многими военными округами и в итоге заслуженно получить назначение на должность первого заместителя министра обороны. Кстати, он единственный из всех заместителей министра обороны, ничего не боясь, посетил мою семью после моего ареста и выразил сочувствие в связи с горем, которое обрушилось на нас. Он и в последующем посещал и звонил, предлагая свои услуги. Были, конечно, и другие истинные друзья и товарищи. О них я еще скажу свое слово.
Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота, выступая одновременно в качестве отдела ЦК КПСС, занимало особое положение в общей военной иерархии. Вроде бы оно находилось в составе Министерства обороны, а вроде и нет. Во всяком случае, начальник Главпура был на уровне первого заместителя министра обороны.
До июля 1990 года это был генерал армии Алексей Дмитриевич Лизичев, а после – генерал-полковник Николай Иванович Шляга. Оба они были детьми своего времени и своей системы. Как привил им в свое время М. Суслов – ни вправо, ни влево от тезисов марксизма-ленинизма, так они и жали по цитатам, а А. Епишев строго следил за этим (чтобы и самому сохраниться). Правда, А. Лизичев был более раскован и бывал иной раз настроен демократично (в хорошем смысле). Н. Шляга был донельзя зашорен и смотрел, млея, на здание ЦК КПСС на Старой площади, как китаец на каменного Будду. Хотя оба они были хорошими, нормальными людьми, и у нас с ними были деловые отношения. Жаль только, что все политработники высшего звена в итоге перестройки не нашли правильного пути для политорганов и окончательно их загубили.
Заместитель министра обороны по вооружению генерал армии Виталий Михайлович Шабанов. В недалеком прошлом, до своего назначения, он был всего лишь подполковником авиации. Затем попал в поле зрения Устинова, благодаря которому в короткие сроки становится генерал-полковником, а вскоре и генералом армии. Никто не мог понять, почему человеку, который никакого представления не имеет о военной операции, присваивают звание генерала армии. Было бы понятно, если бы ему дали, допустим, маршала авиации (все-таки инженер-авиатор), а еще лучше – маршала инженерных войск. Но… «наверху виднее».
В общем, Виталий Михайлович услужливо выполнял поставленные задачи, никогда не вылезал с ненужными инициативами, всегда имел озабоченный вид. И хотя ему была поручена роль координатора, поскольку заказы промышленным предприятиям делали главнокомандующие, какого-либо напряжения вокруг себя он не создавал. У каждого из нас с ним были хорошие отношения. Он отличался воспитанностью, высокой культурой и желанием пофилософствовать (даже тогда, когда не было времени).
Начальник тыла – заместитель министра обороны по тылу генерал армии Владимир Михайлович Архипов. Скажу откровенно, мы не верили, что после многоопытного С. Куркоткина Архипов сможет решать задачи так же твердо и оперативно, как и его предшественники. Ничего подобного. Имея богатый опыт командования, в том числе и военным округом, обладая высокими знаниями и природным даром, В. Архипов управлял тылом значительно лучше их, хотя общая обстановка в стране и в Вооруженных Силах была значительно тяжелее.
Заместитель министра обороны по строительству и расквартированию войск генерал-полковник Николай Васильевич Чеков прошел суровую школу своих предшественников Комаровского, Геловани, Шестопалова. Его незаурядные способности помогли ему продолжить добрые традиции военных строителей. А они, наверное, в то время строили лучше всех других. Вот почему им поручали строить жилые дома для ЦК, санаторий «Южный» и резиденцию-дачу президента СССР в Форосе под Ялтой. Однако Чеков не успевал обеспечить вывод наших войск, и вот это было главной его проблемой.
Заместителем министра обороны по кадрам – начальником Главного управления кадров был до июля 1990 года генерал армии Дмитрий Семенович Сухоруков, а потом – генерал армии Виктор Федорович Ермаков. Оба они имели и высокую подготовку, и опыт, в том числе и командовали военными округами. Дмитрий Семенович к тому же командовал Воздушно-десантными войсками, а Виктор Федорович в свое время был командующим 40-й легендарной армией в Афганистане. Оба прекрасно вели свое дело. Дмитрий Семенович имел к тому же слабость к десантникам, и это пристрастие отражалось на кадровой политике: если речь шла о десантнике, то он должен быть героем, быстрее продвигаться по службе и возможно быстрее получать звание генерала.
Главный инспектор Вооруженных Сил – заместитель министра обороны генерал армии Михаил Иванович Сорокин. За его плечами были и войны (кстати, в Афганистане был Главным военным советником), и мирная учеба, и крупные учения, и командование всеми категориями военной организации до военного округа включительно. Ровный, спокойный, всегда разберется и верно оценит, даст правильные рекомендации. А это для инспекции – все!
Начальник гражданской обороны СССР – заместитель министра обороны Герой Советского Союза генерал армии Владимир Леонидович Говоров. На первый взгляд гражданская оборона – дело туманное, сонное. На самом деле здесь дел не меньше, чем на производстве или в воинской части.
Скажу откровенно, что был рад, когда одно время начальником гражданской обороны страны сделали В.И. Чуйкова и подчинили А.Н. Косыгину. Дело тогда двинулось. Однако границы его все-таки были узки: разработка планов защиты предприятий и ликвидация последствий аварии, создание определенных аварийных команд и их тренировка, выделение необходимых сил, средств и резервов, создание систем управления и защищенных командных пунктов на всех уровнях и т. д. Но, по моему мнению, гражданской обороне должна быть отведена стратегическая роль. Ее руководство должно продумать и предложить правительству четкую организацию народного хозяйства (особенно военно-промышленного комплекса), которая бы исключила, к примеру, сборку самолета на десятках заводов, разбросанных по всей стране. Разве при современных способах ведения войны это рационально и возможно? Все должно быть максимально приближено к главному производству. Разумеется, противник попытается вывести все военные заводы из строя высокоточным оружием, но это уже другой вопрос.
Так что Владимиру Леонидовичу Говорову попался далеко не простой участок. А когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, ведомствам гражданской обороны работы прибавилось. И правильно, что со временем этот участок правительство опять замкнуло на себя и назвало его Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – МЧС. Я рад, что Владимир Леонидович сохранил после Чернобыльской эпопеи силы и сейчас успешно руководит Российским комитетом ветеранов войны.
Председатель Государственной технической комиссии – заместитель министра обороны генерал армии Юрий Алексеевич Яшин. В прошлом ракетчик, технократ. Отлично знал электронику. Ясно представлял те стратегические направления, которые всегда являлись предметом особого внимания иностранных разведок, и наши ответные действия с целью полностью нейтрализовать их деятельность. Юрий Алексеевич тесно взаимодействовал с КГБ, другими специальными министерствами и задачи свои выполнял.
Отдельно хочется остановиться на главнокомандующих видами Вооруженных Сил – заместителях министра обороны. Если все остальные его заместители выполняли функции, обеспечивающие жизнедеятельность войск и флота, то главнокомандующие организовывали и развивали их деятельность, добиваясь совершенства.
Они обладали большой самостоятельностью в решении проблем обеспечения войск, передаче заказов в промышленность и даже совместном ведении НИОКРов. Выходящие в серийное производство объекты находились под контролем заводов-поставщиков (в войсках и на флоте были их постоянные представители, которые занимались доводкой, устраняли поломки, оперативно сообщали на завод, что надо делать).
РВСН, ПВО, ВВС и ВМФ имели свой тыл, поэтому еще и строили все необходимое для инфраструктуры. Сухопутные войска решали эти задачи непосредственно военными округами и группами войск.
В принципе любой вид Вооруженных Сил фактически представлял солидное самостоятельное министерство. Поэтому Министерство обороны правомерно рассматривать как министерство, объединяющее несколько министерств. Выше я представил структуру Военного совета Сухопутных войск. В него входят руководители многих главных управлений и начальников родов войск и служб. Конечно, далеко не все министерства имели такую насыщенную структуру.
Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Герой Советского Союза генерал армии Юрий Павлович Максимов. Мы вместе с ним служили на Севере. Он был командиром 77-й Гвардейской мотострелковой дивизии, входящей в корпус, которым довелось командовать мне. Дивизия была хорошая, командовал он уверенно. Потом возник вопрос о его поездке Главным военным советником в одну из африканских стран. Встретились мы с ним в Афганистане. А еще позже – будучи уже главкомами.
Юрий Павлович Максимов – творчески мыслящий человек, педант в хорошем смысле слова. Приняв на свои плечи РВСН – совершенно незнакомый, фактически новый для него вид Вооруженных Сил, Максимов максимально занялся изучением вооружения, методов управления и способов применения, тем более что его окружение было весьма компетентным. Но благодаря своим недюжинным способностям Ю.П. Максимов через несколько месяцев стал и среди ракетчиков-стратегов своим. В его бытность было создано много нового вооружения.
Главнокомандующим Сухопутными войсками до меня был генерал армии Евгений Филиппович Ивановский, с которым мы вместе служили в Группе Советских войск в Германии. Он был главнокомандующим группы, а я – первым заместителем главнокомандующего. Работа у нас спорилась, отношения были прекрасные, доверие – полное. В общем, лучше не придумаешь. Евгений Филиппович эти человеческие отношения сохранил и в Главкомате Сухопутных войск. Принимая от него дела, я почувствовал это и старался на протяжении тех лет, что были отведены мне на главное командование, поддерживать добрые традиции.
Главнокомандующий войсками противовоздушной обороны страны генерал армии Иван Моисеевич Третьяк. Это уникальный военачальник, и не только потому, что единственный в Вооруженных Силах имел звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Главное – он почти двадцать лет откомандовал военным округом! Это и счастье – столько лет командовать округом, однако это и великий труд. Тем более что Иван Моисеевич «вкалывал» капитально. После Дальневосточного военного округа он несколько лет командовал Дальневосточным стратегическим направлением. И наконец, в центральном аппарате стал главнокомандующим войсками ПВО, заместителем министра обороны. Мы в своем кругу подшучивали: мол, назначили на ПВО в связи с демонстрацией неприступности наших воздушных границ на примере южнокорейского «боинга».
За годы командования ПВО с участием Третьяка был создан целый ряд уникальных комплексов ПВО, которые по своим параметрам недостижимы для американцев даже сейчас. В целом И.М. Третьяк, на мой взгляд, относится к разряду тех военачальников, которые заслуживают особого внимания за вклад в строительство и развитие Вооруженных Сил, сделанный за все годы их службы. Это были военачальники типа П. Кошевого, П. Велика, которые оставили после себя глубокий след на уровне командующего войсками военного округа (группы войск).
Главнокомандующий Военно-воздушными силами, дважды Герой Советского Союза маршал авиации Александр Николаевич Ефимов длительное время был первым заместителем у Главкома ВВС знаменитого П.С. Кутахова, который за свою бытность преобразил авиацию (естественно, с помощью министра обороны Гречко и военно-промышленного комплекса). Но изменились не только самолеты, не только методика подготовки летчиков и внимание к ним – кардинально изменилась инфраструктура для авиации. Все боевые самолеты имели классические укрытия. И это было сделано буквально за несколько лет.
Говоря об этом, хочу подчеркнуть, что уже здесь проявлялась личность А.Н. Ефимова. Являясь первым заместителем главкома ВВС, он фактически не жил в Москве – все время находился в войсках. И во всем, что было сделано в авиации, была большая доля труда и Александра Николаевича. Без преувеличения, наша боевая (особенно фронтовая) авиация была на то время лучшей авиацией в мире. И мы этим гордились.
В июле 1990 года А.Н. Ефимова на посту главкома ВВС сменил генерал-полковник Е. Шапошников, бывший до того первым заместителем Главкома ВВС. Я знал его еще по Прикарпатскому военному округу, где он командовал авиационной дивизией. Это был приветливый, однако нигде, ни в чем себя не проявивший полковник. И это при том, что командиры полков этой дивизии были лично знакомы с министром обороны Гречко. Например, командир 92-го гвардейского истребительного авиационного полка полковник И.С. Буравков. Я не встречал летчика, который был бы лично подготовлен лучше, чем Игорь Сергеевич. Это был летчик высшего класса, и его методика обучения летчиков тоже была высшего класса. Вот почему полк Буравкова был непревзойденным. За ним тянулись и другие полки, да и дивизия в целом была на должном счету. Следовательно, и командир дивизии на высоте.
Иное дело первый заместитель Главкома ВВС, а затем Главком ВВС Е. Шапошников. Мне, например, не были видны какие-либо его личные действия в какой-то области. Взять хотя бы передислокацию авиации в связи с выводом наших войск из Германии. Здесь проблем было много, но я в первую очередь чувствовал действия Главного штаба ВВС и соответствующих начальников служб. Совершенно, к сожалению, не проявил себя Шапошников в содействии Главному командованию Сухопутных войск и в создании армейской авиации.
Очень странно, но вот в период августовских событий 1991 года Е. Шапошников развил бурную деятельность: во-первых, явился инициатором нападок на министра обороны во время проведения заседания коллегии 21 августа 1991 г.; во-вторых, злобно осудил действия ГКЧП, то есть высказался за политику Горбачева по развалу страны; в-третьих, как он позже заявил вместе с Грачевым, ВВС были готовы нанести удар несколькими самолетами по Кремлю, поскольку там находился ГКЧП. Фактически он там не располагался. Но дело не в этом. Сама идея нанести бомбо-штурмовой удар по Кремлю – такая же бредовая, хотя и осуществимая, как и расстрел из танков Верховного Совета РСФСР. Но самое интересное – Шапошников и сейчас работает советником Президента РФ по авиации.
Правильно говорят в народе: «В тихом омуте черти водятся». Вот и в случае с Шапошниковым – всегда любезен и улыбчив, а внутри-то, оказывается, совсем другой – злобный антисоветчик! Почему – объяснить не могу. Советская власть из заморыша вырастила Главнокомандующего Военно-воздушными силами. Правда, с уходом П.С. Кутахова наши ВВС все больше и больше отличались странностями (в воспитательной работе, в режиме полетов, в контроле полетов транспортной авиации, вертолетов и т. д.). Былая слава нашей авиации как-то незаметно становилась миражом.
Главнокомандующий Военно-морскими силами – Герой Советского Союза адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин. Воспитанник Северного флота – самого мощного флота в ядерном отношении. Будучи командующим Северным флотом, Владимир Николаевич был назначен начальником Главного штаба ВМФ, сменив на этом посту адмирала флота Николая Дмитриевича Сергеева, который был высокоавторитетным военачальником в Вооруженных Силах. Замена была достойной. Еще через четыре года Чернавин сменил Главнокомандующего ВМФ – дважды Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова, который руководил флотом 30 лет. И опять замена оказалась достойной. Владимир Николаевич Чернавин принял все меры, чтобы сохранить завоеванные традиции, и был достойным Главнокомандующим ВМФ.
