Неповторимое. Том 3
Text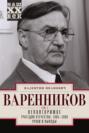


Zum Hörbuch
- Größe: 1470 S.
- Kategorie: Biografien und Memoiren, Sachbücher
Конечно, при необходимости помощь оказывали и министр обороны, и Генеральный штаб – когда нужны были их какие-либо распоряжения.
Особо я должен подчеркнуть важную роль и значение в разрешении этой проблемы местных органов власти. Большую помощь нам оказали руководители Украины – по размещению войск в Ждановке, Кривом Роге, Белой Церкви, Ворошиловграде, Гвардейском и в Советском; руководители Белоруссии – по размещению войск в Марьиной Горке, Заслонове, Слонине. В Белоруссии разместилось и много авиации. Уральцы помогли разместить войска в Тоцком, Черноречье, Чебаркуле. Нижний Новгород хорошо принял танковую дивизию, а Тверь – мотострелковую. Читинская область полностью «приютила» все пять дивизий 39-й армии, которая стояла в Монголии. Одна дивизия была расформирована, из двух сделали базы хранения, две разместились в Забайкальском военном округе.
Должен сказать, что решение всех проблем, связанных с выводом войск, мы не просто держали под своим контролем. Мы непосредственно принимали участие во всей подготовительной работе, а затем выезжали в дивизию, которая должна была прибыть в этот пункт, формировали там группу во главе с заместителем командира дивизии и направляли ее в новый пункт назначения, поставив перед ней задачу – вместе с выделенными для группы силами готовить пункт новой дислокации к приему войск. Часто я вынужден был посылать и войска с техникой той дивизии, которая обязана была подготовить себе новое место.
Поистине это было великим переселением. Не преувеличивая, я не пропустил ни одного нового военного городка, который должны были подготовить к приему войск. С сожалением отмечаю, что во многих случаях приходилось вносить капитальные изменения в эту работу, особенно там, где речь шла о реконструкции или приспособлении казарм под временное офицерское семейное общежитие. И с благодарностью вспоминаю, что все отданные распоряжения выполнялись безукоризненно – в срок и качественно.
В перечисленные выше пункты войска были переведены уже при мне. Но еще многое строилось, и строилось капитально. Например, на Украине – на Широколанском полигоне и под Черкассами; в России – Волгограде, Владикавказе, Юрге (СибВО), Чайковском (ПриВО), Богучаре и Ново-Смолине (МВО).
Большую помощь нам оказали мои коллеги – главкомы других видов Вооруженных Сил, хотя бывали и случаи, когда казармы фактически пустовали, но передавать их с баланса на баланс кое-кто не хотел, хотя на этот счет и был приказ министра обороны.
Но все и военные, и гражданские начальники хорошо помогали нам, понимая наше бедственное положение. Однако решающей фигурой во всех этих делах, несомненно, был командующий войсками соответствующего военного округа. На Украине – вначале генерал-полковник Б. Громов, затем генерал-полковник В. Чечеватов; в Белоруссии – генерал-полковник В. Костенко; в Московском военном округе – генерал-полковник Н. Калинин; на Урале – генерал-полковник А. Макашов; в Одесском военном округе – генерал-полковник И. Морозов. Что касается группировки войск, выведенной из Монголии, то ею полностью занимался фактически только командующий войсками Забайкальского военного округа генерал-полковник В. Семенов. Кстати, он очень удачно разрешил все проблемы в гарнизоне Кяхта.
Вот эти военачальники сыграли главную и решающую роль в подготовке пунктов для приема войск и в самом приеме войск.
Оперативные группы, созданные мной на базе Главкомата Сухопутных войск, были закреплены конкретно за определенными войсками и ежемесячно (а если осложнялась обстановка, то и еженедельно) подробно отчитывались о выполнении графика хода работ по подготовке объекта к приему войск. Это же делал и каждый командующий войсками военного округа: при моем посещении округа или же специальным донесением и устным (по телефону) докладом. В функцию же наших оперативных групп входил не столько контроль над ходом работ, сколько оказание помощи командующему войсками соответствующего военного округа в выполнении стоящей задачи.
У себя в Военном совете мы считали, что вопрос вывода наших войск из стран Восточной Европы и Монголии является чрезвычайным, а фактически оборачивается многими бедствиями, так как он почти не был обеспечен. То, что на перспективу закладывалось строительство, мы приветствовали, однако ждать надо было годы.
Но Военный совет Главкомата был озабочен и другой проблемой, которая по своей значимости не уступала первой. Ведь на самом деле это было одностороннее, то есть только Советским Союзом, сокращение Вооруженных Сил и обычных вооружений. Несмотря на то что к концу 1980-х годов советником президента СССР стал маршал Сергей Федорович Ахромеев – лучший знаток всей переговорной «кухни», мы делали такие «ляпы» в этой области, что просто уму непостижимо. Фактически уже тогда Горбачев шел по пути диктата США по сокращению не только стратегических ядерных вооружений, но и обычных вооружений и Вооруженных Сил. Причем, как ни странно это звучит, в переговорах с Соединенными Штатами по этой проблеме совершенно отсутствовал принцип равной безопасности и поддержания паритета в обычных вооружениях, а также вооруженных сил. Мало того, за рамки переговоров выносились целые виды вооруженных сил США – их военно-морские силы. То есть они совершенно не подлежали обсуждению. Почему? Да потому, видите ли, что они, оказывается, самые крупные и самые мощные военно-морские силы и фактически превышают своей боевой частью все вместе взятые военно-морские силы всех стран.
В то же время Сухопутные войска Вооруженных Сил СССР почему-то подлежали рассмотрению. Вместе с Вооруженными Силами Варшавского договора они действительно количественно превышали такие же Сухопутные войска стран НАТО. Что ж тут странного или удивительного? Ведь у Советского Союза и сухопутная граница имеет протяженность десятки тысяч километров. Да и соседей у нас десятки, а не два, как у США. Это надо же учитывать! А если наши Сухопутные войска сравнить с аналогичными у некоторых наших соседей, то они у нас не самые большие – у Китая больше. И это их дело.
Из общего паритета вооруженных сил в Европе и в мире вырываются наши Сухопутные войска и рассматриваются как объект, угрожающий Европе. При этом, повторяю, военно-морские силы США, все их флоты во всех океанах и морях вообще никак не рассматриваются.
Мало того, на переговорах американцы определяют нам не только количество войск и вооружений, которые мы имеем право иметь в своих Вооруженных Силах на своей территории в европейской части (до Урала). Они нам диктовали, в какой группировке должны пребывать наши войска в пределах до Урала, и даже определили, какую численность войск мы имеем право иметь на флангах, то есть на севере и юге европейской части.
То, что здесь и близко не было никакой объективности, думаю, это видно и слепому. С кем обычно поступают таким образом, как с нами? Верно, с поверженным противником. Именно ему диктует победитель – сколько и какие вооруженные силы он имеет право держать и в какой группировке.
Действовал молох предательства Горбачева – Яковлева – Шеварднадзе. Это они фактически разваливали все основное наше обычное вооружение и группировку Вооруженных Сил на Западе.
Давайте проанализируем – объективно ли для нас складывалась ситуация? Ведь мы согласились на вывод наших войск из Восточной Европы даже в обход Потсдамских соглашений, если это касалось Германии. Мы даже пошли на то, чтобы вывод состоялся в крайне сжатые сроки, нереальные для нормального проведения этой чрезвычайно сложной операции. К тому же на наших глазах разваливается Варшавский договор. Следовательно, Вооруженные Силы этих стран не могут и не должны рассматриваться как единое целое – союза между ними уже нет, как нет и никакого блока. А блок НАТО остается.
Хочу напомнить, что, увидев разрушительные поездки Горбачева по странам Варшавского договора, я написал доклад на имя министра обороны маршала Д.Т. Язова и начальника Генерального штаба генерала армии М.А. Моисеева о том, что Варшавский договор неминуемо развалится. И произойдет это через несколько месяцев. Учитывая это обстоятельство, я предлагал внести руководству страны предложение – выступить инициатором роспуска Варшавского договора (оговорив этот вопрос с его членами) и призвать Запад к роспуску блока НАТО. Конечно, писал я, Запад никогда на это не пойдет, но наша инициатива будет доведена до мирового сообщества, и народы планеты, несомненно, одобрят нашу действительно мирную инициативу.
Однако коллегия Министерства обороны под давлением определенных сил мое предложение оценила отрицательно. Я очень сожалел, что вопрос на обсуждение был поставлен в мое отсутствие – в это время я находился в Армении в связи с очередным ограблением нашего склада с оружием. Дальнейшие события подтвердили мои предположения.
В общем, Горбачев, Яковлев и Шеварднадзе довели нашу страну до такого унижения, какого она не испытывала со времен приснопамятной Русско-японской войны 1904–1905 годов.
Мы сократили обычные вооружения и наши Вооруженные Силы до уровня, который устраивал США и НАТО. Это было открытое разрушение нашей армии. Так сказать, «во имя общечеловеческих ценностей», но вопреки нашим национальным интересам и нашей безопасности. Это было преступление. А преступники не только остались на свободе – они даже частенько красуются на экране. Но это со временем можно будет поправить. Есть беда более опасная, и вот ее-то поправить будет трудно, если мировое сообщество не объединит своих усилий.
Дело в том, что диктат Советскому Союзу был не просто откровенной демонстрацией превосходства и над нашей страной, и над холуйствующими перед США президентом-предателем Горбачевым. Нет, это было нечто значительно большее.
Когда в 1990 году Буш проводил операцию против Ирака «Буря в пустыне», то это была демонстрация силы и полной независимости США от международных законов, от Организации Объединенных Наций. США показали мировому сообществу, что могут направить удар туда, куда они посчитают нужным. По призыву США «под ружье» встали все страны НАТО, к ним присоединилось еще десять государств. А на колеблющихся типа России Буш просто плевал.
Проигнорировав ООН, США и в последующем продолжают действовать в том же духе.
Еще в 1989 году, когда военные убедились, что внутренняя и внешняя политика Горбачева ведет нас к пропасти, мы начали настойчиво предлагать министру обороны поставить вопрос о проведении Горбачевым Главного военного совета (он, кстати, обязан был делать это). В Главный военный совет входила не только коллегия Министерства обороны, но и председатель правительства, председатель Военно-промышленной комиссии, он же первый заместитель председателя правительства, затем председатель КГБ, МВД, министры военных отраслей промышленности, все командующие войсками военных округов (групп войск) и члены военных советов.
18 октября 1989 года такое заседание состоялось. Председательствовал Горбачев. Доклада не было. После его вступительного слова («Вы хотели встретиться – я пришел!») начались выступления. Наиболее резко высказывались все главнокомандующие видами Вооруженных Сил – Ю.П. Максимов, В.И. Варенников, И.М. Третьяк, А.Н. Ефимов, В.Н. Чернавин, В.М. Архипов, а также командующий войсками Приволжского военного округа генерал-полковник А.М. Макашов, министр оборонной промышленности М.Б. Белоусов.
Все с огромной тревогой и озабоченностью говорили о катастрофическом положении в Вооруженных Силах в связи с выводом войск и в военно-промышленном комплексе – из-за отсутствия финансирования заказов. Правительственные же органы, которые непосредственно за это отвечают, на наши запросы не реагируют. В общем, «дебаты» шли полдня. Подводя итоги, Горбачев поблагодарил всех за честный и откровенный разговор, пообещал незамедлительно принять меры по устранению и сказал, что в таком составе мы будем встречаться как минимум два раза в год. Кстати, там же нами был поставлен вопрос о присвоении звания Маршала Советского Союза министру обороны – это тоже показатель отношения к Вооруженным Силам. Вскоре звание было присвоено, но ни одной встречи, ни одного решения Горбачева в пользу Вооруженных Сил или военно-промышленного комплекса так и не последовало…
Соединенные Штаты с окончанием «холодной войны» (как они считают, но я не разделяю этого мнения, что «холодная война» закончилась, а наоборот – приобрела другие формы и таит в себе большую опасность возникновения вооруженных столкновений) не только полностью стали диктовать Советскому Союзу свою волю, но и вообще устранили его с арены как великую державу, а затем с помощью предательского руководства и пятой колонны разрушили его. Таким образом, важнейшее препятствие на пути США к мировому господству было ликвидировано.
Однако еще не все пути к этой цели расчищены. Существует Совет Безопасности ООН, в котором страны-победительницы представлены с времен Ялтинского соглашения на равных. США считают, что это анахронизм, и стараются превратить Совет Безопасности из органа, который принимает важнейшие решения, в том числе по проблемам войны и мира, в рядовой, совещательный. Тем самым ликвидировать на своем пути к мировому господству вторую важнейшую преграду.
Судя по событиям января 1999 года, американцам удается скомпрометировать этот международный орган. Председатель спецкомиссии ООН австралиец Р. Батлер фактически является сотрудником ЦРУ. Батлер и его комиссия, по сути, выполняли в Ираке шпионские функции, чем нанесли удар по ООН. Одни говорят, что Совет Безопасности от действий Батлера находится в нокдауне, другие – в нокауте, а третьи даже считают, что Совету Безопасности пришел конец.
Соединенные Штаты рвутся к мировому господству. Вроде бы формально путь к нему расчищен. Ан нет! Как мне кажется, в Европе начинают понимать опасность гегемонизма США. Тут нужно вспомнить, что при создании НАТО в 1949 году французы проявили осторожность и вступили в альянс не действительным членом этого военного блока, а только политическим. Генерал де Голль не раз заявлял, что в Европе хозяевами должны быть европейцы, а не пришельцы из-за океана. Эта позиция разделялась всеми, кроме англичан. Дальше – больше. Начиная с 1950-х годов европейцы пытаются создать Европу без американцев. Далее они определяют единую денежную единицу экю (присоединились практически все страны Европы, даже Великобритания). В 1991 году Коль инициировал подписание в Маастрихте европейцами (без США) договора о создании Европейского экономического и валютного союза. Коль ничего против американцев вслух не говорит, но делает. И правильно делает. Вскоре во Франкфурте появляется Европейский валютный институт – наметка будущего Европейского центрального банка. Наконец, в 1998 году специально существующая Еврокомиссия приняла ряд стран Европы в систему евро. Единая валюта евро уже реально «примерена» на свою национальную валюту большинством стран Европы, которые готовы к обмену пока ценными бумагами, а с 2002 года в Европе будут ходить живые евро, которые станут на пути до этого всемогущего (но не подкрепленного золотом) доллара США.
Вслед за единой европейской валютой, конечно, будет пересмотрена и внешняя оборонная политика. Несомненно, что вслед за долларом будет потеснен и Североатлантический альянс, на который опираются США. На мой взгляд, третье тысячелетие для этой страны не будет столь радужным, каким его рисуют американцы. А вот европейцам «грозит» процветание – через самостоятельность. Но чтобы необходимые ресурсы были бы у Европы в достатке, последней, несомненно, надо ориентироваться на Россию.
Глава 2
Военный совет главного командования сухопутных войск
Состав Военного совета и его приверженность. – Не на обочине, а в центре событий. – Участие Военного совета в решении проблем. – Заявление съезду народных депутатов. – Участие в политической жизни страны. – Поездки, и не только к избирателям. – Съезд народных депутатов. – Пленумы ЦК КПСС. – Г. Зюганов, «Слово к народу», июль 1991 года. – Ельцин в Доме кино против Горбачева. – Создание армейской авиации и дорожно-строительных войск
На протяжении всего времени своей службы и особенно когда я уже изучил круг обязанностей и деятельности Главного командования Сухопутных войск непосредственно, мне этот орган представлялся весьма положительным. На первом плане в решении всех проблем, естественно, всегда выступал главнокомандующий. Вслед за ним – Главный штаб, Главное управление боевой подготовки и другие главные управления. Сами главнокомандующие Сухопутными войсками, в первую очередь Г. Жуков, Р. Малиновский, В. Чуйков, да сами начальники Главных управлений выглядели высоко. Взять хотя бы генерала армии Владимира Яковлевича Колпакчи, бывшего до того командующим Северным военным округом, а затем стал начальником Главного управления Сухопутных войск. Надо заметить, что на эту должность назначался, как на повышение, уже опытный командующий войсками военного округа. И не просто опытный, а достойный военачальник, способный учить и строго спрашивать с командующих военными округами. Вот всеми этими качествами высшего класса и обладал генерал Колпакчи, который был не просто профессионалом, незаурядным организатором и отличным военачальником, а вообще особенным человеком широкой, многогранной эрудиции. И когда он на учении погиб в вертолетной катастрофе, то скорбели все Вооруженные Силы, и не только.
Разумеется, в Главкомате, как правило, были сильные штабы и их начальники, а также Политическое управление во главе с членами Военного совета. Все рода войск и службы были представлены на уровне главных и центральных управлений, а их начальники – в звании генерал-полковника. Ракетными войсками и артиллерией, как правило, командовал маршал артиллерии.
Когда я принял у Евгения Филипповича Ивановского Главное командование Сухопутных войск, то Военный совет Главкомата, в который фактически входили все заместители главкома, начальники родов войск, служб и начальники главных управлений, был высоко подготовленным, исключительно организованным и деятельным. Вообще всю свою службу, начиная с войны, я попадал в сильные коллективы и меня окружали замечательные офицеры и солдаты, хорошо подготовленные, самоотверженные. Естественно, бывали и исключения, но весьма редко. Основная масса действовала так, что я верил в них как в себя. И сейчас вспоминаю их исключительно с теплотой и уважением.
У генерала армии Анатолия Владимировича Бетехтина богатый послужной список. Служить ему приходилось в суровых краях, да и родился он на Севере. Обладает отличной подготовкой и организаторскими способностями. Весьма авторитетный человек. Любые задачи выполняет легко, но с высокой ответственностью.
Генерал-полковник Михаил Данилович Попков – член Военного совета – начальник Политотдела. Хоть он и подчинялся Главпуру СА и ВМФ, но положительной чертой его было то, что он не копировал начальника Главпура А.А. Епишева, а был весьма самостоятельным в принятии решений и руководстве порученным участком.
В 1990 году на этот пост пришел генерал-полковник Николай Андреевич Моисеев. Он добросовестно выполнял свои обязанности, всячески помогал главкому и другим членам Военного совета, был связующим звеном в Военном совете, а Политуправление в его бытность стало более открытым и прозрачным. В нем не было духа цековщины, то есть какой-то загадочности, таинственности, недосказанности, отчужденности, хотя такие функционеры в наше время были, и старались они говорить вроде все «начистоту», по-партийному… однако между ними и истинными коммунистами, к сожалению, была преграда. Отталкивало от таких деятелей стремление подчеркнуть, что, мол, ты – командир, но и я – член Военного совета, я тебе не подчинен и буду делать так, как считаю нужным. Вот Н.А. Моисеев не был таким и ничего подобного не демонстрировал. Он делал то, что записывалось в решениях Военного совета. И это поднимало его авторитет. Что касается меня, то у нас с ним сложились самые добрые откровенные отношения.
Генерал-полковник Дмитрий Александрович Гринкевич был начальником штаба Группы Советских войск в Германии и несколько лет возглавлял Главный штаб Сухопутных войск. Он немало сделал для совершенствования работы Главного штаба, постоянно помогал штабам военных округов. Для главкома Главный штаб был, разумеется, основной опорой в разрешении всех наших проблем, отношения у нас были хорошие, открытые. Он, как и другие заместители главкома, заходил ко мне в любое время без стука. Д.А. Гринкевич был начальником штаба высшего класса и брал на себя многие крупные вопросы. Но, как и многие люди, побывавшие в своей роли десятилетия, совершенно не терпел ни малейшей критики. Я же на одной из коллегий Министерства обороны критически высказался и в свой адрес, и в адрес Главного штаба СВ относительно недостаточного проведения контроля за службой войск в военных округах. Это вызвало у Дмитрия Александровича обиду – он просто не мог даже представить, что у него могут быть какие-то недостатки. И мы, к сожалению, расстались не так, как хотел бы этого я.
Д.А. Гринкевича сменил генерал-полковник Михаил Петрович Колесников. Он включился в работу так, что никто и не почувствовал, что у нас появился новый начальник Главного штаба. Это был уже опытный руководитель. Перед тем командовал армией и длительное время был начальником штаба Южного стратегического направления. Главнокомандующие этого направления приходили и уходили, а начальник штаба оставался. Надо иметь в виду, что это стратегическое направление и по территории, и по количеству союзных республик фактически было самым большим. Сюда входили: Закавказский военный округ – три союзных (Азербайджан, Армения, Грузия) и несколько автономных республик; Туркестанский и Среднеазиатский военные округа – пять союзных (Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан), ряд автономных республик и округов. Естественно, в этих условиях главнокомандующий стратегического направления должен быть на высоте, а его штаб – обеспечить взятие этой высоты. Думаю, что Михаил Петрович с такой задачей справился успешно. Поэтому Главному штабу Сухопутных войск просто повезло, что именно Колесников был назначен на эту должность. Служба у нас с ним спорилась прекрасно.
Неудивительно, что в последующем его забрали в Генеральный штаб, где он был начальником вначале Главного управления, а затем – Генерального штаба. А после этого возглавлял важный федеральный орган, который подчиняется правительству Российской Федерации.
Заместителем главнокомандующего по боевой подготовке – начальником Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск был генерал-полковник Алексей Артемьевич Демидов. Это самое беспокойное управление: никогда не «сидело» в Москве – только в войсках. Оно было призвано обеспечить высокий уровень боевой подготовки каждого военного округа и группы войск, сообразуясь с театром военных действий. Имея за плечами богатый опыт работы в войсках, в том числе успешно командуя одной из групп войск наших Вооруженных Сил, Алексей Артемьевич умело организовал работу Главного управления и обеспечивал решение возложенных на него задач. Напряжение было, естественно, большое, и в один из роковых дней А. Демидов получил инфаркт миокарда. После излечения, по предложению министра обороны, генерал уволился в отставку, хотя в целом мог бы еще потрудиться.
Эту должность занял генерал-полковник Эдуард Аркадьевич Воробьев, который до этого командовал Центральной группой войск. Его я знал прекрасно еще по Прикарпатскому военному округу и поэтому сразу дружески «предупредил», что не следует рассматривать должность заместителя главнокомандующего по боевой подготовке как конечный этап службы. Так оно и получилось – через некоторое время Э.А. Воробьев стал первым заместителем главнокомандующего.
Генерал-полковник Евгений Иванович Крылов был заместителем главнокомандующего по военно-учебным заведениям. Как уже сказано ранее, их в Сухопутных войсках было очень много, поэтому начальники родов войск и служб постоянно следили за своими специальными высшими военными училищами и военными академиями, а генерал Крылов сосредоточивал свои усилия на общевойсковых и танковых высших военных, а также на суворовских училищах, курсах «Выстрел» и Военных академиях им. М.В. Фрунзе и Бронетанковых войск. Каюсь, из-за постоянной нехватки времени я не так уж много внимания уделял Е. Крылову и его управлению, но он успешно решал возложенные на него задачи. Учитывая его высокую эрудицию и умение особо достойно держаться на официальных мероприятиях, я иногда привлекал Евгения Ивановича себе в помощь, если приезжал кто-то из иностранцев с официальным визитом на высоком уровне.
Все названные военачальники были моими ближайшими сподвижниками в Главкомате Сухопутных войск.
Дальше шли рода войск и службы.
Маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин – начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. Учитывая, что в Сухопутных войсках артиллерия придавалась уже мотострелковому батальону, естественно, и мотострелковому полку, а ракетные войска – мотострелковой и танковой дивизии, то читатель может себе представить эту огромную систему артиллерийских (в том числе реактивных и минометных) и ракетных частей и соединений. Если говорить о высшем уровне, то в каждой армии была своя ракетная бригада и плюс несколько ракетных бригад, а также одна-две артиллерийские дивизии окружного (группового) подчинения. И четко надо организовать у них учебу, боевую подготовку, чтобы на общевойсковых учениях, особенно с боевой стрельбой артиллерии, можно было бы получать результаты, нужные для реального боя. Мало того, надо было вести научную работу (в том числе через артиллерийскую академию) и иметь тесную связь с промышленностью и военными учеными, чтобы наша артиллерия и ракетные войска своевременно получали все необходимое.
И все это Владимир Михайлович со своим штабом обеспечивал безукоризненно. Он даже находил время, чтобы приехать в Афганистан, где бывал у нас на боевых действиях. Толковый военачальник. Не знаю его как политика, хотя мы с ним знакомы 25 лет. Дело в том, что и Михалкин, и в еще большей степени Ахромеев имели прямое отношение к уникальному ракетному комплексу оперативно-тактического значения «Ока». В нарушение всех положений договора о сокращении ракет меньшей и средней дальности комплекс был незаконно включен в число уничтожаемых. Но оба этих военачальника позже заявляли, что они были против. Однако ущерб стране нанесен огромный. Выходит, протестовать можно категорически и во всеуслышание, но можно протестовать и так, чтобы никто не обиделся, особенно высокий начальник.
Генерал-полковник Юрий Тимофеевич Чесноков – начальник войск ПВО Сухопутных войск. Структура этих войск такая же, как и у артиллеристов и ракетчиков, но зенитно-ракетные комплексы спускаются еще ниже, то есть в мотострелковые роты, если говорить о носимых зенитно-ракетных комплексах разового действия типа «Стрела» или «Игла». То есть всё и все в Сухопутных войсках готовы вести самую активную борьбу с любыми самолетами и вертолетами противника. От «Стрелы» и «Тунгуски» и до С-300. Все это плюс стрелковое оружие и автоматические пушки на БМП готовы были отразить любую атаку с воздуха. Нам всем просто повезло, что ученые и военная промышленность оснастили нас уникальными средствами ПВО, а военные училища смогли организовать высококлассное освоение этого супервооружения, которого до сих пор нет у американцев. Генерал-полковник Ю.Т. Чесноков был прекрасным военачальником.
Генерал-полковник Виталий Егорович Павлов – заместитель главнокомандующего по армейской авиации, Герой Советского Союза – это звание он получил за Афганистан. Толковый, честный и очень работоспособный начальник. Под стать ему был штаб армейской авиации. Скажу честно, рождался этот новый род Сухопутных войск на моих глазах. Тяжелое это дело, тем более если приходится решать такую задачу параллельно с выводом наших войск из Восточной Европы и Монголии, заниматься сокращением обычных вооружений и войск, а также участвовать в проведении мероприятий по наведению порядка в горячих точках (Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика). Это просто судьба, что командовать армейской авиацией доверили генералу Павлову. Он сам лично и его самоотверженный коллектив сделали все, чтобы через год забилось сердце этой авиации. Вначале было несколько десятков вертолетных полков. Затем мыслилось иметь полки штурмовиков. В начале августа 1991 года, взяв за основу аэродром Броды, мы провели на базе Прикарпатского военного округа установочные сборы для командования всех полков армейской авиации. Было продемонстрировано, как организуется жизнь, быт и боевая деятельность вертолетного полка, поддержание высокой боевой готовности и участие его в общевойсковом учении с боевой стрельбой. Это было, так сказать, крещение. И все прошло отлично.
Жаль, что рухнула страна, а с нею и Вооруженные Силы, и Сухопутные войска превратились в мираж. Но важно, что надежда и вера живы, а также есть люди типа В. Павлова, которые смогут поднять все из руин.
Генерал-полковник Павел Иванович Баженов – заместитель главнокомандующего по вооружению. Учитывая, что еще существуют самостоятельно главные бронетанковое, автомобильное и ракетно-артиллерийское управления с прямым подчинением и главкому, и министру обороны, то роль заместителя главкома по вооружению заключалась в координации действий этих управлений, слежении за прохождением заказов в промышленность и за выполнением в руководстве научно-техническим комитетом (который, кстати, действовал весьма плодотворно), наконец, в контроле выполнения войсками директив министра, Генштаба и Главнокомандующего Сухопутными войсками по соответствующим разделам. Будучи по природе умным человеком, Павел Иванович во имя дела умел найти контакт с любым начальником, любым работником, даже с теми, кого мы относили к числу непримиримых и несговорчивых. Это возвышало его в наших глазах.
Но годы идут, настало время, и на смену пришел теперь уже генерал-полковник Сергей Александрович Маев – «афганец». Прошел в Афганистане, как и многие, огни, воды и медные трубы. Если говорить о медных трубах, то мы в 1988 году в Кабуле отмечали присвоение ему первого генеральского звания. Все задачи Сергею Александровичу были ясны, человек он контактный, поэтому с коллективом сразу сложились нормальные отношения. А на плечи ему свалилась тяжелая ноша. Но он вытянул свой воз. А когда в Вооруженных Силах пошли реорганизации, он возглавил объединенное Главное автобронетанковое управление.
