Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны
Text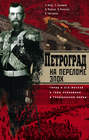


Zum Hörbuch
- Größe: 660 S.
- Kategorie: Allgemeine Geschichte
На политическом олимпе: Григорий Зиновьев
Главной фигурой на политическом олимпе Петрограда времен Гражданской войны был, несомненно, Г.Е. Зиновьев. Влияние председателя Петросовета, председателя Совета комиссаров СКСО и прочих органов власти на жизнь в городе было столь велико, что некоторые мемуаристы небезосновательно называли его «диктатором» или «царьком». Имя Зиновьева каждодневно и не единожды встречалось на страницах петроградских газет. Его «огромный голос тенорового тембра, чрезвычайно звонкий»[75], звучал на митингах и собраниях, заседаниях и конференциях, которыми изобиловала жизнь революционного Петрограда. Порой обыватели могли лицезреть Зиновьева и при его передвижениях по городу. Язвительная З.Н. Гиппиус вспоминала: «Любопытно видеть, как „следует“ по стогнам града „начальник Северной коммуны“. Человек он жирный, белотелый, курчавый. На фотографиях, в газете, выходит необыкновенно похожим на пышную, старую тетку. Зимой и летом он без шапки. Когда едет в своем автомобиле – открытом, – то возвышается на коленях у двух красноармейцев. Это его личная охрана»[76].
На полноту Зиновьева обращали внимание многие мемуаристы. «Григорий Зиновьев, приехавший из эмиграции худым как жердь, так откормился и ожирел в голодные годы революции, что был даже прозван Ромовой бабкой», – замечал позднее Ю. Анненков[77]. Обвинения Зиновьева в том, что он «ожирел на выжатых из голодного населения деньгах»[78], довольно часты среди его противников и в какой-то мере справедливы. Питание высших слоев партийной и советской номенклатуры заметно и в лучшую сторону отличалось от питания подавляющего большинства населения города. Нелишне все же заметить, что с юности Зиновьев страдал болезнью сердца, которая давала предрасположенность к полноте. Болезнь помешала ему окончить Бернский университет, где он учился сначала на экономическом, затем на юридическом факультетах[79], но не помешала связать свою жизнь с большевистской партией.
К 1917 г. популярность Зиновьева среди партийного ядра была велика. Он все время шел вторым после Ленина: в апреле 1917 г. при выборах в ЦК кандидатуры Ленина и Зиновьева были приняты без обсуждения; в июле-августе на VI съезде РСДРП(б), опять же на выборах в ЦК, Зиновьев получил 132 голоса из 134, всего на один голос меньше, чем Ленин. Фамилиями Ленина и Зиновьева открывался список представителей большевиков в Учредительное собрание. Даже несогласие Зиновьева с курсом партии на вооруженное восстание и демонстративный выход в ноябре 1917 г. из состава ЦК не поколебали его позиций в партии. Ленин рекомендовал выдвинуть кандидатуру Зиновьева на пост председателя Петроградского Совета, и с 13 декабря 1917 г. в течение восьми с лишним лет Зиновьев был руководителем советских органов города. А «в марте 1918 года, когда Совнарком решил переезжать из Петрограда в Москву, Ленин заявил в Смольном, что хочет оставить Троцкого в Петрограде главой питерского Совнаркома, а Зиновьева взять с собой в Москву». Это утверждение А.Д. Нагловского, бывшего при Зиновьеве комиссаром путей сообщения, косвенно подтверждается упоминавшимся уже сообщением о создании в Петрограде 11 марта 1918 г. ВРК во главе с Троцким. Но питерская партийная верхушка поддержала Зиновьева, и Ленину пришлось с этим согласиться[80]. Трудно сказать, насколько самому Зиновьеву понравился этот выбор. Ясно одно: масштаб обычного, заурядного города его не привлекал. Зиновьев был рьяным сторонником создания СКСО и долго сопротивлялся последующим указаниям Москвы о ликвидации Союза коммун. Потерпев поражение, он начал усиленно проводить в жизнь новый проект – объединение города и губернии – и добился успеха. Конечно, и образование СКСО, и слияние «города и деревни» нельзя сводить только к честолюбивым замыслам Зиновьева. Были и другие сторонники этих объединений, было, во всяком случае на первом этапе образования СКСО, стремление к единению ряда губерний Северной области. Но амбициозность Зиновьева при осуществлении данных проектов также не стоит сбрасывать со счетов.
Будучи фактическим правителем города, он в то же время (по крайней мере до осени 1918 г.) ощущал себя и неким местоблюстителем центральных органов страны в Петрограде. Решение ВЦИК о переносе столицы Советской России в Москву, принятое в конце февраля 1918 г., было подтверждено постановлением IV Всероссийского съезда Советов 16 марта[81]. Зиновьев, выступивший на съезде с докладом о переезде правительства, выразил надежду, что «перенесение столицы в Москву будет кратковременным»[82]. Через несколько месяцев – уже на 2-м съезде Советов Северной области – он повторил свою мысль: «Петроград <…> до сих пор в значительной степени не потерял своих функций как столица <…> и будем надеяться, что в ближайшее время он сможет себе их вернуть и наша центральная власть первая будет рада реэвакуации сюда»[83]. Немного позже, в начале ноября, делегатам от Северной области, избранным на VI Всероссийский съезд Советов, был предложен написанный Зиновьевым проект резолюции, в которой утверждалась необходимость существования СКСО, «вплоть до того момента, когда Совет народных комиссаров и Всероссийский ЦИК смогут переехать в Петроград и Петроград вновь станет столицей советской России». Делегаты высказались за сохранение СКСО, но эту оговорку из проекта резолюции вычеркнули[84].
Все же мысль об особенности, о возвышении Петрограда, о соблюдении дореволюционной традиции двух столиц, но теперь уже в иной очередности, не покидала некоторых управленцев и впоследствии. Именно этим можно объяснить брошенную Зиновьевым на заседании ПК 12 января 1920 г. фразу: «Колчак пойман и будет, вероятно, привезен в Питер»[85]. А в конце того же года заведующий отделом коммунального хозяйства Петросовета Л.М. Михайлов, ратуя за строительство метрополитена в городе на Неве, подчеркивал, что появление метро повысит значение Петрограда «в ряду городов Республики»[86]. Примечательны в этом же отношении приводимые отечественным историком Н.Ю. Черепениной данные о содержании поднятых Зиновьевым в 1919–1922 гг. вопросов на Политбюро ЦК РКП(б): из 111 вопросов 39 были связаны с международными делами, 30 – с Петроградом и 26 – с общегосударственными проблемами[87]. Петроград волновал его больше, чем всероссийские проблемы, и немногим меньше, чем внешнеполитическая ситуация.
Среди петроградских руководителей Зиновьев выделялся как хороший оратор. В этом он уступал, пожалуй, лишь признанному всеми «трибуну революции» В. Володарскому. Правда, в отличие от Володарского, Зиновьев не слишком часто выступал на митингах, но положительный эффект от его выступлений в первые месяцы пролетарской революции отмечали даже его будущие недруги. Бывший комиссар Нагловский признавал, что «в широких слоях партии и среди революционно настроенных рабочих Зиновьев пользовался тогда несомненно большим влиянием, и все его выступления проходили неизменно с шумным успехом»[88]. Он же отмечал удивительную легкость речи оратора. О ясности и общедоступности мысли и гладком, легком стиле выступлений Зиновьева писал и Луначарский[89].
Но не всегда все проходило гладко. Когда период революционной эйфории сменился временем борьбы не только против внешних и внутренних врагов социализма, но и за собственное выживание, петроградцы не стали столь положительно откликаться на каждое слово своего «вождя». Например, по свидетельству Гиппиус, на конференции матросов и красноармейцев в 1919 г. речь Зиновьева вызвала противоположную ожидаемой реакцию. «Надежное собрание возмутилось, – пишет она. – „Коммунисты“ вдруг точно взбесились: полезли на Зиновьева с криками: „Долой войну! Долой комиссаров!“»[90]
Будучи неплохим оратором, Зиновьев был довольно плодовитым публицистом. Его статьи нередко появлялись на страницах «Северной коммуны», «Петроградской правды», «Красной газеты». В списке авторов брошюр и книг, выпускаемых издательством Петросовета, он неизменно занимал верхние строчки. В каталоге книг, выпущенных этим издательством к концу 1919 г., указано, что из печати вышло 16 работ Зиновьева, печатаются две и еще две работы Зиновьев подготовил с Лениным и Луначарским.
У Ленина было опубликовано 5 работ и 4 находились в печати. За это же время у Троцкого вышли 3 книги и одна печаталась, у жены Зиновьева, З.И. Лилиной, – соответственно 2 и 3[91].
В этом же издательстве в конце 1919 г. готовились к выпуску портреты К. Маркса и Ленина, Троцкого, Зиновьева, Луначарского. В апреле того же года Кинематографический комитет в Петрограде издал открытки с портретами Зиновьева и председателя ВЦИК М.И. Калинина[92]. Подобные мероприятия диктовались чисто агитационно-пропагандистскими требованиями момента и не вызывают удивления. Но порой стремление повысить популярность политического лидера достигалось методами, весьма сходными с теми, которые употребляли царские чиновники, столь ненавидимые и критикуемые большевиками. В частности, уже в первые годы советской власти зародилась широко распространившаяся в 1920-1930-е гг. традиция называть различные учреждения или географические пункты именами здравствующих политиков. Это явление, имевшее всероссийский масштаб, затронуло и Северную столицу. Так, образовавшийся в 1918 г. в Петрограде Крестьянский (позднее – Рабочекрестьянский) университет получил имя Зиновьева. В начале 1919 г. неизвестный автор подал в Петросовет записку о создании агитационного «плавучего дворца „Культура“» и о присвоении ему имени Зиновьева. Основным аргументом в пользу такого предложения было то, что в Москве есть поезд им. Ленина, а в Питере ничего подобного нет[93]. Этот проект по каким-то причинам не был воплощен в жизнь, зато другой встретил понимание и одобрение председателя Петросовета. 1 февраля 1919 г. на имя Зиновьева поступила телефонограмма от членов исполнительной коллегии Кинематографического комитета. Они просили разрешения назвать кинотеатр «Художественный Выборгский», находившийся в доме № 8 по Финскому переулку, «Государственным Свето-Театром имени тов. Зиновьева». Резолюция председателя Петросовета была написана в духе тех самых советских бюрократов, которых он неустанно обличал: «Ответить согласием. Г. Зиновьев»[94].
Наверняка с желанием повысить популярность среди жителей города связаны дела о покушении на Зиновьева. В конце августа – начале сентября 1918 г. петроградские газеты, переполненные материалами о ранении Ленина и об убийстве председателя местной ЧК М.С. Урицкого, информировали читателей о покушении на председателя Совета комиссаров СКСО. Буквально сразу же в прессе появился текст обращения по радио Ф.Э. Дзержинского, Г.Е. Зиновьева, А.В. Луначарского и военного комиссара СКСО Б.П. Позерна «Ко всему цивилизованному миру». «Организаторами покушения на Ленина и Зиновьева, – говорилось в нем, – являются англо-французы»[95]. Однако спустя некоторое время газеты сообщили, что на самом деле к Зиновьеву приходил какой-то человек с пакетом и, не застав хозяина дома, ушел. Этот случай и был принят за террористический акт, ибо других доказательств покушения пресса не приводила. Позднее, на процессе по делу эсеров в 1922 г., боевик Г.И. Семенов показал, что, по мнению лидера партии А.Р. Гоца, необходимо было убить Зиновьева и Володарского: «Так как Зиновьев почти не выезжал из Смольного, а Володарский часто бывал на митингах <…>, то решено было убить его первым»[96]. Трудно сказать, насколько все это соответствовало действительности. Эсеры, правда, уже левые, обвинялись в подготовке покушения на Зиновьева и в 1919 г. Выступая на заседании Петросовета 11 апреля, председатель петроградской ЧК С.С. Лобов заявил, что левые эсеры «в последнее время намечают ряд террористических актов против вождей петроградских рабочих и, в частности, против тов. Зиновьева»[97]. Фактов при этом приведено не было. Учитывая, что двумя днями раньше исполком Совета лишил левых эсеров депутатских мандатов, возникает сомнение в искренности главного чекиста города. Повторимся, что, скорее всего, все истории с несостоявшимися покушениями создавались искусственно и должны были работать на повышение авторитета Зиновьева.
Все же на долю председателя Петросовета выпадало немало сложных моментов, когда надо было заботиться не только о себе, но и о поддержавших его избирателях. Наиболее кризисными ситуациями были, конечно, наступления белогвардейцев весной-летом и осенью 1919 г. и восстание в Кронштадте в феврале-марте 1921 г. Судя по воспоминаниям многих бывших товарищей по партии, в этих случаях «диктатор» был не на высоте.
А.Д. Нагловский утверждал, что «в период опасности <…> Зиновьев превращался в растерянного, панического, но необычайно кровожадного труса»[98]. Л.Д. Троцкий, прибывший в Петроград в октябре 1919 г., вспоминал позднее об этих днях: «Центром растерянности был Зиновьев. Свердлов говорил мне: „Зиновьев – это паника“. А Свердлов знал людей. И действительно: в благоприятные периоды, когда, по выражению Ленина, „нечего было бояться“, Зиновьев очень легко взбирался на седьмое небо. Когда же дела шли плохо, Зиновьев ложился обычно на диван, не в метафорическом, а в подлинном смысле, и вздыхал. Начиная с семнадцатого года, я мог убедиться, что средних настроений Зиновьев не знал: либо седьмое небо, либо диван. На этот раз я застал его на диване»[99]. Когда осенью 1921 г. в петроградской парторганизации разгорелся конфликт между Н.А. Углановым, в то время секретарем петроградского губкома, и Зиновьевым, Угланов заявил, что Зиновьев обычно уезжает из Петрограда в трудное для города время, и добавил, что, по собственным словам Зиновьева, с конца февраля до начала сентября 1921 г. тот «отсутствовал более трех месяцев»[100]. Особняком в этом «хоре голосов» стоит свидетельство А.В. Луначарского, который в уже цитировавшейся статье писал, что «в дело управления Петроградом» Зиновьев вносил «черты твердости, искусной тактики и спокойствия при самых трудных обстоятельствах»[101]. Конечно, мнения и той, и другой стороны достаточно субъективны, но если учесть, что в кризисные для Петрограда ситуации Москва обязательно присылала своего представителя (в мае 1919 г. – И.В. Сталина, в октябре – Л.Д. Троцкого, в марте 1921 г. – М.И. Калинина и для командования войсками М.Н. Тухачевского), то можно, по крайней мере, утверждать, что в этих событиях Зиновьеву не пришлось играть роль единоличного лидера. Проанализировав деятельность Зиновьева на военном поприще в 1918–1919 гг., современный исследователь В.М. Вихров приходит к оригинальному, хотя и не бесспорному выводу о том, что «основная роль главы Петрограда на этом направлении заключалась в привлечении внимания большевистской элиты к опасности падения Петрограда»[102].
Зиновьев болезненно переносил это вмешательство в его правление, но терпел, понимая, что он, по словам Троцкого, «не был создан для таких положений». Зато во внутригородских столкновениях, возникавших между Зиновьевым и другими партийными и советскими функционерами, он, как правило, побеждал. Конфликт вокруг Равич, разгоревшийся в конце января – начале февраля 1919 г. между Зиновьевым, с одной стороны, и СОК и ПК (секретарем последнего был П.С. Заславский) – с другой, закончился скорым отъездом Заславского из Петрограда[103]. В том же году Зиновьев «не пустил <… > обратно в Питер» после выздоровления В.М. Молотова[104], председателя Совета народного хозяйства Северного района. В 1920 г. пришлось покинуть Петроград председателю Петрокоммуны А.Е. Бадаеву, еще через два года аналогичным образом разрешилось противостояние Зиновьева и Угланова: последний был отозван в распоряжение ЦК.
Далеко не безоблачными были отношения председателя Петросовета с Луначарским. После переезда Советского правительства в Москву Луначарский, являясь наркомом просвещения России, стал и комиссаром по просвещению Петроградской трудовой коммуны. Официально это объяснялось необходимостью заботы о культурных ценностях Петрограда, неофициально Луначарский оставался своеобразным представителем центрального правительства в Северной столице.
Роль наркома в сбережении культурного наследия общеизвестна. «Об этом свидетельствуют, – писала в своем обстоятельном исследовании о культурном строительстве в Петрограде в первые годы советской власти Г.И. Ильина, – его многочисленные устные заявления, высказывания в печати и практическая деятельность»[105]. «Луначарского сейчас считают спасителем культуры. Он все больше и больше завоевывает симпатии. Самый гуманный и культурный из большевистских деятелей», – эти строки занес в дневник 25 октября 1918 г. архивист Г.А. Князев, достаточно критически относившийся к новой власти[106]. Безусловно, не вся интеллигенция одобряла деятельность Луначарского, но многие, выбирая из двух зол меньшее, шли к комиссару по просвещению, а не к другим петроградским «вождям». Самому Луначарскому это общение, судя по наблюдениям современников, доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие. К.И. Чуковский, часто встречавшийся с ним в начале 1918 г., записал 14 февраля: «Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-н[и]б[удь], сделать одолжение – для него нет ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное существо, источающее на всех благодать: – Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны, – и пишет рекомендательные письма ко всем, к кому угодно – и на каждом лихо подмахивает: Луначарский <… >
Портрет царя у него в кабинете – из либерализма – не завешен. Вызывает он посетителей по двое. Сажает их по обеим сторонам. И покуда говорит с одним, другому предоставляется восхищаться государственной мудростью Анатолия Васильевича. Кокетство наивное и безобидное»[107].
Зиновьеву Луначарский, видимо, не казался безобидным. Две значительные для города фигуры так и не смогли найти общий язык. Об одном конфликте между ними, связанном с Детским Селом, уже говорилось. Возможно, против Луначарского и Максима Горького было направлено и дело № 517, заведенное Петроградской ЧК весной 1919 г. Суть его состояла в следующем. По подозрению в спекуляции художественными ценностями в мае 1919 г. были арестованы несколько человек, среди них сын известного ювелира Карла Фаберже Агафон. Однако спекулятивность сделки, по мнению следствия, состояла не в завышении продажной цены коллекции, а в организованных арестованными роскошных пиршествах для экспертов и высоких гостей, в число коих входили Луначарский, Горький, М.Ф. Андреева. Последних следователь собирался привлечь к ответственности «за злоупотребление властью». Основные обвиняемые, хотя позже и оказались в тюрьме, в обвинительном заключении проходили на втором плане. Дело тянулось до начала 1920 г. и, кажется, закончилось ничем для высоких гостей[108]. К этому времени Луначарский уже окончательно переехал в Москву. Его отъезд был связан с изменением статуса комиссариата по просвещению СКСО после ликвидации Северной области весной 1919 г. Просуществовав еще некоторое время, комиссариат стал одним из отделов Петросовета. Летом того же года Петросовет упразднил должность комиссара по просвещению на основании того, что Луначарский чаще жил в Москве, чем в Петрограде. Вслед за комиссаром постепенно из гороно были удалены и сотрудники, с которыми он работал и которые его поддерживали.
В ряду заметных для Петрограда фигур стоял и Максим Горький. В отличие от Зиновьева и Луначарского его популярность определялась не постами, хотя он был депутатом Петросовета и даже какое-то время входил в состав его исполкома, а известностью как писателя и общественного деятеля еще с дореволюционных времен. Среди рабочих отношение к Горькому в целом было уважительным. Интеллигенция же была в этом отношении менее однородна: одни любили и поддерживали его, другие пытались использовать писателя для устройства собственных дел, третьи ненавидели за сотрудничество с большевиками. Впрочем, были и такие, которые ненавидели, но помощью Горького не гнушались. Да и сотрудничество писателя с властью в период Гражданской войны заметно отличалось от его отношения к коммунистам в 30-е гг. В первые годы советской власти Горький выступал обычно не певцом новой власти, а ее критиком. Достаточно вспомнить ставшие теперь широко известными «Несвоевременные мысли», публиковавшиеся им в 1917–1918 гг. в газете «Новая жизнь». К.И. Чуковский записал в дневнике 2 апреля 1919 г.: «О большевиках он (Горький. – А. Ч.) всегда говорит: они! Ни разу не сказал: мы. Всегда говорит о них, как о врагах»[109]. Немногим позже Чуковский вновь обращается к теме «Горький и большевики»: «Горькому журнал («Завтра». – А. Ч.) очень люб. Он набросал целый ряд статеек – некоторые читал, некоторые пересказывал – и все антибольшевистские. Я поехал в Смольный к Лисовскому[110] просить разрешения; Лисовский разрешил, но, выдавая разрешение, сказал: прошу каждый номер доставлять мне предварительно на просмотр. Потому что мы совсем не уверены в Горьком»[111].
Но Горький все же был слишком значительной фигурой, чтобы подобная неуверенность в нем власть предержащих переросла в репрессии против писателя. Кроме того, за ним стоял Ленин. И, наконец, главное – Горький являлся своеобразным «мостиком» между партийными функционерами и петроградскими рабочими. Порой «мостик» превращался в «щит», как это случилось на уже упоминавшейся конференции «матросов и красноармейцев». З.Н. Гиппиус вспоминала, что, когда непонимание между залом и Зиновьевым достигло опасного предела, личная секретарша Зиновьева Костина «бросилась отыскивать Горького. Ездила на зиновьевском автомобиле по всему городу, даже в наш дом заглядывала <… > Где-то отыскала, наконец, привезла – спасать Зиновьева, спасать большевиков»[112]. Все же отношения между ними были достаточно сложными, а в 1920 г., если верить воспоминаниям В.Ф. Ходасевича, племянница которого жила в квартире Горького на Кронверкском проспекте, испортились вконец: «До открытой войны дело еще не доходило, но Зиновьев старался вредить Горькому, где мог и как мог»[113]. Например, подверглись перлюстрации письма Ленина к писателю, по распоряжению Зиновьева чекисты произвели обыск в его квартире. Н.Н. Берберова, жена В.Ф. Ходасевича, полагает, что «Зиновьев, как ближайший человек Ленину, не терпел мысли о возможности Горького занять его место в сердце великого человека». Кроме того, по мнению Берберовой, конфликт усугублялся пребыванием в доме Горького Марии Игнатьевны Будберг, которую петроградские власти считали английской шпионкой[114].
Конфликты возникали не только между известными в Петрограде и в стране политическими фигурами. Более низкий уровень управленцев также не отличался монолитностью. Речь в данном случае не идет о разногласиях, вызываемых принципиальными вопросами политического, экономического или военного характера. Безусловно, такие проблемы, как отношение к Брестскому миру, продразверстке, продотрядам и т. п., не могли быть решены единогласно, учитывая их важность и наличие определенной степени демократичности в партийно-советской среде в то время. Речь идет о разногласиях или, точнее, о склоках, которые изредка вырывались на поверхность и делили чиновников на враждебные группировки. Прекрасной иллюстрацией к сказанному может служить «Письмо уездным и городским комитетам РКП(б) от членов губкома и бывшего состава губисполкома об интригах в губкоме и губисполкоме», написанное, по всей видимости, не позднее марта 1920 г. Его авторы П.Л. Пахомов, Дмитриев, Новицкий, Козлов, Клейнштейн и Тиман, заявляя о выходе из состава губкома и губисполкома, объясняли свой поступок нездоровой обстановкой, сложившейся в этих органах еще с 1918 г. «Подлый и низкий разгул интриганства» они связали с образованием группы, в которую вошли М.Н. Мино, К.А. Юносов, С. Цейтлин и другие, а возглавил ее «вождь, вдохновитель, жрец и бог интриганской оппозиции» В.П. Оборин. На восьми машинописных страницах авторы письма обеляли себя и бывшего секретаря петроградского губкома Н.А. Кубяка и обвиняли своих противников, причем суть разногласий не выходила за рамки самой обычной склоки[115]. По распоряжению ЦК РКП(б) авторы письма были направлены на работу в другие районы страны, и раздоры прекратились. Этот способ – перевод представителей одной из конфликтующих сторон на работу в иные местности – применялся в дальнейшем не раз при возникновении подобных ситуаций.
Победители торжествовали недолго. После объединения губернских и городских органов власти в начале июля 1920 г. Юносов, сменивший Пахомова на посту председателя губисполкома, вошел в состав большого президиума нового губисполкома, но уже 16 августа был направлен на работу в Совет народного хозяйства[116]. Секретарь губкома Мино оказалась довольно скоро в коллегии отдела работниц и крестьянок при ПК, а затем по личному заявлению перешла в комитет партии большевиков Петербургского уезда[117]. Ее муж и «вдохновитель оппозиции» Оборин в ноябре 1920 г. служил в Петрополитпути[118]. Таким образом, городские функционеры не позволили бывшим высшим губернским чиновникам даже приблизиться к рычагам реальной власти. Городская верхушка ревниво охраняла свои позиции. К этому времени в партийном и советском аппарате сложился прочный блок сторонников и единомышленников Зиновьева, во многом благодаря которым он и удерживался у власти. Эти же люди поддержали Зиновьева в 1925–1927 гг., когда началась его борьба со Сталиным. Под известным «заявлением 83-х» (май 1927 г.) встречаются подписи И.П. Бакаева и С.М. Гессена, Н. Гордона и Г.Е. Евдокимова, С.С. Зорина и С.М. Закс-Гладнева, А.С. Куклина и С.Н. Равич, М.М. Харитонова[119]. В зиновьевскую оппозицию 1927 г. входили также И. Авдеев и П. Залуцкий, М. Лашевич и З. Лилина. Все они находились на достаточно высоких постах в Петрограде в 1918–1920 гг. Подбор «своих людей» на ключевые должности – явление, характерное не только для Петрограда и лично для Зиновьева, но и для других районов страны и разных уровней власти. От этого принципа большевики не отказывались и в дальнейшем.
Другой особенностью, весьма распространенной при распределении должностей в первые годы советской власти, была семейственность. Многие руководители разных рангов находились между собой в родственных отношениях. Отчасти это было закономерное явление, так как в революционном движении в царской России участвовали целыми семьями. Браки, заключенные между революционерами, тоже были нередкими. После захвата власти многие из этих категорий подпольщиков оказались на весьма ответственных и высоких постах. Не стал исключением и Петроград. Первая жена Зиновьева, З.И. Лилина, в 1918–1919 гг. была комиссаром социального обеспечения СКСО, с декабря 1919 г. стала заведующей школьным отделом петроградского комиссариата просвещения[120]. Вторая, гражданская, жена С.Н. Равич также профессиональная революционерка, после убийства Урицкого возглавила комиссариат внутренних дел СКСО, неоднократно избиралась членом ПК и исполкома Петросовета[121]. Брат Лилиной – И.И. Ионов (Бернштейн) – после Октябрьского восстания заведовал издательством Петроградского Совета, затем петроградским отделением Государственного издательства и был известен как поэт[122]. По утверждению историка Н.А. Васецкого, бывший в 1921 г. редактором «Петроградской правды» С.М. Закс-Гладнев тоже состоял в родстве с Зиновьевым, являясь его шурином[123]. По некоторым сведениям, председатель Петроградской ЧК (с сентября 1919 по август 1920 г.) И.П. Бакаев был женат на А.П. Костиной, личной секретарше Зиновьева, а ее сестра была замужем за П.А. Залуцким[124]. Своего родственника в когорте петроградских руководителей имел и Урицкий. Его племянник Б.Г. Каплун в годы Гражданской войны являлся управляющим делами Петросовета и слыл радетелем и меценатом литературно-художественного мира Петрограда[125].
Безусловно, родственные связи накладывали своеобразный отпечаток на отношения внутри ответственных работников и могли даже влиять на их деятельность и принимаемые решения.
