Русская Армия в изгнании. Том 13
Text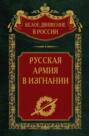


Zum Hörbuch
- Größe: 850 S.
- Kategorie: Biografien und Memoiren, Sachbücher
По лицу земли
Второй период жизни Русской Армии – период подготовки к переходу на трудовое положение – можно считать законченным после наступления спокойствия в Болгарии. Для Сербии он начался еще раньше; но болгарские события не давали возможности закрепиться новым формам и начать третий период – переход армии на самообеспечение.
«Самообеспечение» армии вовсе не знаменует собою такого состояния, когда всем отдельным чинам ее обеспечен минимум средств к существованию. Дать русским воинам возможность своим трудом зарабатывать себе хлеб было одной из насущнейших задач Главного командования; но это была главная, но не главнейшая задача. Армия не могла превратиться в посредническую контору или биржу труда; помощь отдельным лицам не могла сделаться самоцелью. Сохраняя основу каждой армии – человеческий материал – Главное командование, раз оно не отказалось от мысли о значении армии, должно было заботиться прежде всего о сохранении всей организации.
Сама организация могла и должна была принимать новые формы, в зависимости от внешней обстановки. Подобно тому как во время боя походная колонна развертывается в резервную, заменяется линией колонн, переходит в развернутый строй и заканчивается рассыпным строем, так и во время этого тягчайшего боя в обстановке изгнания пришел момент принять рассыпной строй.
Для постороннего зрителя, на которого действует вид военных перестроений, рассыпной строй может показаться беспорядком, но он тем и отличается от неорганизованной толпы, что, предоставляя свободу личной инициативы, он сохраняет, не менее походной колонны, общее управление над людьми.
То, что было заложено в Галлиполи и на Лемносе, то, что было закалено в борьбе с коммунистическим натиском в Болгарии, наконец, то, что приобреталось в тяжелом повседневном труде, – все это позволяло уже не беспокоиться за прочность военной спайки. Все эти лица уже не нуждались больше в казарменном режиме. Смотря по обстоятельствам им можно было придавать различную организацию, начиная от чисто полковой организации отдельных рабочих групп в Сербии, переходя к форме рабочих артелей и кончая совершенно свободными студенческими землячествами.
Но воинскими частями, прибывшими из Крыма, не ограничивалась Русская Армия. Кроме них, по лицу земли были разбросаны русские офицеры и солдаты, принимавшие участие в противобольшевистской борьбе на других фронтах или совсем не принимавшие в ней участия, но являющиеся такими же чинами Русской Армии. Они, как отдельные лица, были брошены в водоворот жизни. Они, естественно, сразу же окунулись в эту жизнь, сразу же захлестнулись интересами окружающей среды. Каждый из них оставался по-прежнему воинским чином; но все вместе они не представляли из себя воинской организации.
Однако и в этой обстановке они неизменно стремились друг к другу и образовывали слабые профессиональные военные союзы. Учитывая это и придавая значение возможно большему единообразию в их конструкции, уже в апреле 1921 года был утвержден Главнокомандующим «нормальный устав» и военным представителям разных стран дано задание – не только содействовать образованию союзов, но и объединять их по каждой стране общим руководством.
В письме генералу Шатилову еще от 26 сентября 1923 года генерал Врангель так обрисовывает значение союзов: «…Армия, нашедшая себе приют на Балканах, ныне стала на ноги, за участь ее мы можем быть спокойны. Вокруг нее надо собрать тех воинов, которые рассеяны по всему миру. В дальнейшем, по мере того как наше изгнание будет длиться и чины армии в поисках работы будут постепенно оставлять ряды родных частей и, прибывая в ту или иную страну, входить в офицерские союзы, это различие между собственно армией и объединенным в союзы офицерством будет сглаживаться».
Союзы мало-помалу крепли – и, конечно, не могли не тянуться к основному ядру – Русской Армии. Ядро это явилось могучим объединяющим и организующим центром. Но на пути к этому объединению встали значительные препятствия. Препятствия эти были двух родов: внутреннего и внешнего.
Внутренние препятствия проистекали от условий самого образования союзов. Они возникли в совершенно мирных гражданских условиях жизни и, естественно, восприняли многое, что не укладывалось в рамки военной организации, несмотря ни на какие уставы: между формами совершенно свободной ассоциации и формами воинской жизни должно было быть внутреннее несогласие.
Внешнее препятствие состояло в том, что военные союзы легко подпадали под влияние политической агитации извне, – из воинских частей они превращались в политические клубы.
Перед Главным командованием встала задача: приблизить формы жизни союзов к воинскому укладу и тем сделать возможным широкое объединение всех воинских чинов за границей. Приказ № 82, о котором шла речь выше, был вызван именно этими обстоятельствами. Приказ этот ограждал союзы от влияния политических группировок и впервые применял к независимым общественным организациям воинское приказание.
Мы уже видели, как после некоторой борьбы привычное чувство офицеров одержало верх над непривычным чувством гражданской свободы: приказ был принят подавляющим числом союзов. Но с того момента, как он был принят, уничтожалась принципиальная грань, разделяющая две части Русской Армии. Оставалось углубить и закрепить новое положение, и 1 сентября 1924 года был отдан приказ об образовании Русского Обще-Воинского Союза.
В Русский Обще-Воинский Союз включались все воинские части и воинские союзы и общества, принявшие к исполнению приказ № 82, а также те, которые в будущем пожелали бы присоединиться к объединению. Внутренняя жизнь, регламентируемая уставом отдельных обществ, сохранялась в силе; Русский Обще-Воинский Союз как бы объединял все воинские организации. В своем административном управлении союз делился на отделы, во главе которого становились начальники отдела, непосредственно подчиненные Главнокомандующему, которым давалось общее руководство по деятельности отделов.
Таким образом, устанавливалось существенно новое положение, которое несомненно было присуще офицерским организациям, но которое не фигурировало ни в одном из уставов. По этим уставам выбранный председатель являлся только исполнительным органом избравшего его коллектива; теперь возможны были общие указания, и идущие не снизу, но сверху. Такое переходное – и внутренне противоречивое – положение продолжалось до приказа Верховного Главнокомандующего, приравнявшего военные союзы к воинским частям. Согласно этому приказу председатели офицерских союзов назначались властью Верховного Главнокомандующего: принцип выборности заменился постепенно принципом назначения (из общего числа военных союзов исключен только Союз Военных Инвалидов, как организация чисто гуманитарная). В руки Великого князя переходила теперь военная организация, с таким большим трудом сохраненная среди всеобщего распыления.
Для того чтобы завершить большое дело объединения, потребовалась планомерная, упорная и продолжительная работа. Случайные средства Главного командования истощились к осени 1922 года; ликвидация к этому времени Ссудной Казны давала возможность впервые составить сметные предположения на более или менее продолжительный срок и расходную смету на период с 1 октября 1922 года до 1 апреля 1924 года. Однако практически смета утверждалась только на ближайшую четверть года – ив каждый последующий период проводились новые и новые сокращения.
Уже к осени 1922 года почти все чины армии стали на работу, но дальнейшее проведение в жизнь намеченного плана не прекращалось, и 16 апреля 1923 года начальнику штаба Главнокомандующего, генералу Миллеру, было дано предписание «…в срочном порядке разработать меры для постепенного перехода работающих чинов армии на самообеспечение; наметить сообразно с условиями работ обязательные отчисления с заработной платы для образования капиталов больничных, страховых, организационных и т. д.; разработать положение о кассах взаимопомощи, взаимного кредита, сберегательных и т. д. В зависимости от условий работ и государства, где работают чины армии, меры эти могут быть разнообразны, но в конечном итоге должны привести к тому, чтобы в ближайшее время и по возможности не позже как к весне будущего года все части армии стали бы полностью на ноги».
Во исполнение указанного предписания стали копиться суммы про черный день. Отпускаемые Главнокомандующим в распоряжение начальников войсковых групп суммы на хозяйственные нужды частей, на помощь безработным и т. д. были обращены в «предельные»: неиспользованные кредиты возвращению Главному командованию не подлежали, оставаясь в распоряжении старших начальников и составляя так называемые «хозяйственные суммы» войсковых групп.
Эти суммы давали возможность в случае сокращения или прекращения казенных отпусков на ту или иную надобность покрывать наиболее насущные нужды. Из этих же сумм в дальнейшем частично покрывался расход по содержанию кадрового состава частей, так как содержание это за счет работы чинов части признавалось недопустимым, и этот принцип строго проводился в жизнь.
Одновременно накапливались капиталы и в самих частях. Суммы эти были двух родов. Части, стоящие на работах, обязаны были делать определенные отчисления в особый капитал, являющийся собственностью самих вкладчиков. Это были своего рода сберегательные кассы, но вкладчик, пока он состоял в части, лишен был возможности свободного пользования этими деньгами. Командир части являлся до некоторой степени опекуном над таким вкладчиком и, выдавая деньги в случае безработицы, болезни и пр., мог отказать в выдаче по первому немотивированному требованию. Деньги возвращались обязательно только лицам, уходящим из части совершенно. Подобные капиталы существовали и в мирное время в Русской Армии, в казачьих полках, и носили название «ремонтных».
Второй вид сумм состоял из обязательных взносов, которые не составляли уже собственности частных лиц, а являлись собственностью части. Эти обязательные взносы в различных местах установлены различно. В частях 1-го корпуса установлен единообразный ежемесячный взнос. По донесению генерала Витковского, процент вносящих колеблется от 32 процентов до 77 процентов списочного состава. Процент этот не имеет тенденции к понижению. В кавалерии и казачьих частях взнос этот определяется различно, по месту и доходности работ, и изменяется с изменением этих условий.
Накопление всех этих сумм давало возможность в случае временного прекращения работ обеспечивать перевозку рабочих групп с одного места на другое, оборудовать, где это является необходимым, околодки, оказывать помощь отдельным безработным, временно потерявшим трудоспособность, поддерживать связь, давать информацию и пр. Странное и трогательное явление – чины армии, не получающие содержания, но вносящие свои взносы за великую честь состоять в ее рядах!
По мере того как части переходили на трудовое положение, отдельные чины и группы разъезжались в поисках работы в другие страны. По условиям рынка труда такое дробление было совершенно необходимо для нахождения работы, иногда это создавало даже возможность получения более выгодных условий.
Благодаря содействию Главного командования в различные страны Европы, главным образом во Францию, были перевезены на работы большие партии, по возможности целыми частями. Отдельные лица, переезжающие благодаря личным хлопотам и собственной инициативе, попадая на новые места, с особой радостью соединялись со своими однополчанами и входили в ту организацию, которая охватила теперь все места, где работают офицеры и солдаты Русской Армии.
Из Польши были вывезены, наконец, остатки той 3-й армии25, которая начала свое формирование в последние месяцы обороны Крыма, была затем интернирована и невыносимо страдала после заключения Рижского мирного договора и падения Крыма. Положение ее было нестерпимо. Многие были заключены в концентрационные лагеря вместе с пленными красноармейцами и после подписания мира и обмена военнопленными рисковали быть отправленными в Советскую Россию. На положении «опекуна», пользующегося большими связями благодаря близости к главе государства маршалу Пилсудскому, стоял Борис Савинков с особым полусоциалистическим комитетом. Дисциплина падала, а жизненные условия ухудшались. Постановка на работы этих частей была воспринята ими как выход из плена.
Кроме Франции, групповые работы организовались в Бельгии – и везде устанавливалась та дисциплина, которая так выгодно отличала русских рабочих даже среди предпринимателей. Всюду налаживалась связь, ибо и в новом рабочем виде армия должна была оставаться неизменной.
В то время как в Болгарии и Сербии роль объединяющего рабочие группы облегчалась известной инерцией и старой привычкой к установившимся отношениям, в других странах приходилось прилагать особые усилия, чтобы не дать затеряться отдельным прибывшим лицам или даже целым небольшим партиям. Обычно по прибытии в ближайшие пограничные города партии разбивались на несколько групп и направлялись по различным предприятиям. Если предприятия эти не имели еще на своей территории наших военных организаций, то такие маленькие партии легко могли затеряться. Типичная рабочая среда, рабочая жизнь врывались каким-то новым враждебным потоком – и ощущение оторванности, тяжелый и беспросветный труд создавали пониженное и угнетенное настроение.
Приходилось «разыскивать» таких случайно затерявшихся. Делалось это опросом различных лиц, прибывающих в крупные пункты по своим личным делам, путем частной переписки, путем специальной командировки начальников армейских рабочих групп в промышленные районы и т. д. Нахождение таких «утерянных» и приобщение их к общей организации сразу поднимало и бодрость, и самочувствие. Назначался начальник такой затерявшейся группы. Ему давались инструкции – и новая ячейка была создана.
Кроме общего идейного значения таких организаций, сразу учитывалось и их практическое значение. Начальники рабочих групп единогласно отмечают то исключительно сильное и благоприятное впечатление, которое производит на администрацию промышленных предприятий организованность и дисциплинированность русских рабочих групп. Является совершенно обычным, что просьбы отдельных чинов группы, заявленные через начальника группы, почти не встречают отказа, в то время как просьбы от своего имени часто не удовлетворяются.
Администрация предприятий, видя организованность русских рабочих групп, очень часто выражает готовность идти на значительные материальные траты, если только они имеют целью улучшить обстановку всей группы. Были случаи, когда по просьбе начальника группы ассигновались крупные суммы на пополнение библиотек русскими книгами, оборудовались домовые церкви и священнику давалось от завода довольствие и квартира.
Кроме этого, отдельные организованные группы получали информацию, помощь при создании своих библиотек, при желании перевестись на другое место на работу, при просьбах об оказании юридического совета и т. д. Все это уже практически содействовало укреплению организации. И такими группами покрыта вся Европа, и, кажется, нет страны в мире, где не было бы таких «опорных пунктов» Русской Армии.
Если в первое время, пока не окрепло ядро, было так важно сохранить части по возможности в одном месте, то теперь уже не было опасности «распыления», которого так жаждал господин Милюков. Главное командование уже само стремилось рассредоточить армию по различным странам в лучших условиях работы. Еще 18 июля 1923 года Главнокомандующий в циркулярном предписании старшим начальникам указывал на необходимость «дальнейшего рассредоточения армии с целью улучшения условий жизни и работы». В подобном же предписании 28 марта 1924 года вновь подтверждается, что «нам отнюдь не следует опасаться дальнейшего неизбежного рассредоточения армии, отъезда отдельных лиц и групп на работы в самые отдаленные государства. Физическое разрежение армии не страшно. Духовная сплоченность ее остается недоступной для каких-либо внешних ударов. Это положение необходимо внедрять в сознание подчиненных вам начальников и младших чинов». Наконец, в предписании 24 марта 1925 года указывается, что, «как показал опыт, переброшенные во Францию и Бельгию кадры частей не только не уменьшились численно, но в некоторых случаях и возросли, включив в себя и часть тех чинов, которые, не выдержав тяжелых условий работы на Балканах, временно оставили ряды родных частей; в новых условиях работы, во много раз более легкой и лучше оплачиваемой, они получили возможность соединиться со своими соратниками», а потому начальникам войсковых групп на Балканах предлагалось «принять меры, способствующие переброске с Балкан войсковых частей».
С учреждением Русского Обще-Воинского Союза войсковые части, рабочие группы и отдельные лица, которые состояли в каком-либо офицерском союзе, были объединены – и таким образом повсеместно осуществлялась связь между всем зарубежным воинством.
О жизни Русской Армии в новом «рабочем виде» можно составить представление как по многочисленным письмам, так и по той информации, издание которой вменено в обязанность начальникам частей.
Письма друг к другу стали большой потребностью. Устроившийся более или менее хорошо в большинстве случаев тянет за собою своих друзей и однополчан. Таким образом, процесс устройства прочными группами облегчается естественным стремлением сохранить прежнюю связь. Из писем можно установить общую картину, которая с несомненностью говорит о том, что везде сохраняется военная спайка и что везде люди живут сознанием того, что жизнь их рано или поздно будет нужна Родине. Это проглядывает во всех без исключения письмах, даже самых пессимистичных. Даже в минуты слабости (ведь и такие бывают!) отчаяние происходит не оттого, что тяжело жить, что тянутся дни изгнания, а от страха за то, что эти годы рабочей жизни в каких-нибудь шахтах, такой далекой от нормального воинского быта, могут поколебать нравственные устои, столь нужные для будущей службы России. Разве такие пессимистические письма не должны возбуждать самый определенный оптимизм? Но для таких пессимистических страхов нет никаких оснований. Теперь, через столько лет, можно уже смело сказать, что моральный облик Русской Армии остался прежним и дух непоколебимым.
Вот выдержки из письма одного подпрапорщика, работающего в селе Кричиме (Болгария). «Праздники встретили группами, что доказывает, что не ослабела еще наша спайка. Все находящиеся в Кричиме дроздовцы и алексеевцы объединились и провели сочельник и первый день праздника вместе за общей трапезой. Встреча нового года была еще многолюдней: присоединились несколько человек, находящихся на беженском положении. Пили здравицу за Многострадальную Родину Нашу, за Верховного Вождя и Главнокомандующего – и всех, кому дорога Великая Россия». Студент-сергиевец из Праги пишет: «Отрадно заметить, что вновь прибывающие сергиевцы сейчас же получают от своих однокашников решительно все: приют, советы, помощь; его накормят, помогут устроиться и даже, если есть, дадут и денег. По выражению капитана К., он «ехал все время от сергиевцев к сергиевцам – Станимака, Пловдив, София, Аом, Прага, Пшибрам». В Праге все сергиевцы живут в одном месте». Из Франции пишут: «Значительная партия корниловцев, во главе с капитаном Б., продолжает работать на заводе Жоффрекур, по разрядке старых снарядов. В общем работу на заводе легкой назвать нельзя, но нежелание уходить из своей полковой ячейки, а также постепенное улучшение материального положения, в связи с предоставлением администрацией лучших мест, привели к тому, что партия имеет тенденцию к увеличению. Все чины корниловской партии поддерживают тесную связь между собой и начальником партии, который, в свою очередь, сообщает нам полученные информации и распоряжения. Все чины партии обложили себя ежемесячными взносами в свою часть, на содержание инвалидов и на выдачу пособий. За последний год партия отправила в Болгарию на содержание инвалидов своего полка 1600 франков, израсходовала на содержание инвалидов, находящихся при ней, 1400 франков и выдала пособия нуждающимся чинам партии – 1200 франков. С самого начала работ на заводе корниловской партии удалось установить с администрацией завода прекрасные отношения, что дало возможность капитану Б. выхлопотать у директора завода до 70 сертификатов для вывоза из Болгарии своих однополчан».
Интересно сообщение начальника Николаевского инженерного училища: «По общему постановлению офицеров училища, каждый из чинов его ежемесячно вносит в училище по 5 левов на библиотеку. В настоящее время в библиотеке собрано 1000 томов, но она еще продолжает пополняться и дальше покупкой новых книг партиями – 2–3 раза в год. Книгами пользуются не только на месте, но они высылаются для пользования начальникам рабочих групп в Кричим, Перник и Пловдив».
А вот сообщение из Пловдива, от казаков: «Каледино-Назаровский полк отпраздновал 25 мая свой полковой праздник. Дабы не нарушать обычных работ, празднование было назначено на вечерние часы. Офицерское собрание полка было заботливо украшено зеленью, цветами и разноцветной бумагой. Празднование началось торжественным выносом полкового штандарта перед выстроившимися в собрании гг. офицерами и казаками. Штаб-трубач сыграл «под знамя». После этого был отслужен молебен с поминовением Государя Императора Николая Александровича и Его Августейшей Семьи, шефов полка, атаманов Каледина и Назарова, и всех калединцев и назаровцев, на поле брани живот свой положивших и в смуту убиенных, и с провозглашением многолетия Е.И.В. Великому князю Николаю Николаевичу, Государыне Императрице Марии Феодоровне и всем вождям Русской Армии. По окончании молебна, когда штандарт был поставлен в строй, командир полка поздравил каледино-назаровцев с полковым праздником и сказал им прочувствованное слово, упомянув, что мы имели счастье, богатство, могучую и необъятную Родину, но мало ее ценили – и потеряли, и теперь идем тяжелым путем изгнания, живя лишь верой и надеждой в воскресение нашей дорогой Родины. Единственно, что у нас осталось, – это наша Армия, полковая семья. Совместно легче переносить горе и изгнание. Надо поэтому ценить нашу белую подвижническую и бессмертную Армию».
И по всем местам, где работают русские воины, они ценят и берегут эту «подвижническую и бессмертную Армию». Берегут ее, как бережет моряк свое судно, стоящее в порту в ожидании дальнего плавания. Любовно ремонтирует он свой корабль, сбивает ржавчину, красит обнажившиеся части – и знает, что стоит он здесь для того, чтобы крепким и могучим врезаться в океанские волны…
Русский Флот есть частица великого русского воинства. Но роль Русского Флота неоценима для всего русского дела: не будь его – великий русский исход превратился бы в великую русскую катастрофу. Приведенные в Бизерту русские суда стояли несколько лет под русским Андреевским флагом. Их личный состав, как и на других фронтах нашего изгнания, совершал чудеса долготерпения и рыцарской верности.
Как и на других фронтах, функционировал Морской корпус, где молодежь воспитывалась в духе патриотизма и долга, и, разделенная от армии дальностью расстояния, наша эскадра выявляла трогательное единство чувств и действий. Бережно поддерживались суда, сданные в «долгосрочный ремонт»; производились занятия; отстаивалась свобода и честь людей; охранялись суда от попыток захвата и продажи. Знакомая борьба, как две капли воды похожая повсюду!..
Так же, как и везде, благородное поведение русских моряков вызывало удивление и преклонение французских властей; так же, как и везде, эти же власти требовали, под давлением своего правительства, ряда тяжелых уступок, и так же, как и везде, – наступил день, когда официально Русский Флот перестал существовать.
И может быть, только нигде в других местах мы не встречали благородного французского офицера, который бы, как командующий эскадрой адмирал Эксельманс, предпочел выйти в отставку, чем исполнить приказание – впустить большевистскую комиссию для осмотра русских судов, приготовленных к сдаче. Русский Флот и Русская Армия не забывают своих друзей, потому что нельзя забыть того, что пережито.
Флот стоял в состоянии «долговременного хранения». Казалось бы, в этих условиях не было места героическим подвигам. Но нашему флоту выпала великая честь и тут, когда кончились военные действия, покрыть себя неувядаемой славой. Тогда, когда на рейде Босфора, среди других кораблей с развевающимися флагами, потонула маленькая яхта «Лукулл» под белым Андреевским флагом, дежурный офицер, мичман Сапунов, с изумительным спокойствием отдавал последние приказания и, спасая честь Андреевского флага, не пожелал оставить судна и пошел с ним ко дну…
«Лукулла» не стало. «У древних греков, – писал в «Новом Времени» А. Ренников26, – существовала легенда о плавучем острове Делосе. Яхта «Лукулл» была для нас именно таким русским Делосом, заменившим нам государство, и эпоха «Лукулла» впоследствии также станет легендой, и потомки наши на материке великой России поймут всю красоту и печаль скитавшейся по чужим морям родной государственности». Но не только о ней будут помнить русские люди. Они будут помнить о подвиге русского офицера, мичмана Сапунова, перед флотом всего мира показавшего верность своему долгу…
Что пережил наш флот, загнанный в далекую Бизерту?
Можно было бы много и подробно написать об этом. Написать по целой серии докладов доблестных адмиралов Кедрова27 и Беренса28, по газетным заметкам, которые время от времени проникали в печать.
Но мне хочется использовать другой материал, в полном смысле слова «человеческий документ». Нам не так важно, сколько судов стояло в Бизерте, сколько пришло в негодность, сколько было продано нашими «союзниками»; гораздо важнее, что в этих плавучих домах жили люди, так же остро воспринимающие гонения на русский флаг, так же любящие родную эскадру, как и те, кто – отделенные тысячами верст – в Балканских горах отстаивали по силе своего разумения русскую честь.
Передо мной переписка двух братьев. Один – подпоручик в Сербии. Другой – гардемарин в Бизерте. Моряку всего 20 лет. В серии писем – целый калейдоскоп положений и событий. Матрос, юнга, кадет, гардемарин… Крым, эвакуация, Константинополь, Бизерта… И во всех этих письмах, через все эти исписанные листки, тянется красной нитью одно настроение, общее для всех нас за все эти годы. Читаешь эти письма – и чувствуешь, что то же ощущали мы в Галлиполи, под угрозой французского распыления, в Болгарии, под террором «болгарских зверств», во всей Европе – при равнодушии и враждебности. И эти письма, эти «человеческие документы», ярче всего расскажут о том, что пережил наш флот.
Вот первое письмо. Форт Джебель-Кебир, 23 мая 1922 года. Молодой мальчик (ему тогда еще не было 19 лет) находит следы своего брата, с которым виделся в последний раз в Симферополе в 1920 году. Письмо полно эпизодами из его жизни за эти два года. Почти захлебываясь, стараясь не опустить мелочей, пишет он, как стал «моряком», как пережил эвакуацию, стоял под карантинным флагом в Константинополе и попал в Бизерту. «…Все очень интересно. Много нового, ценного, крепкого получил я. Много пришлось увидеть, пережить и перенести тяжелого, но ничто не сломило во мне бодрости духа…»
И вот, с бодрым духом поступает юноша в Морской корпус, и начинается упорная работа. «…Мы страшно заняты и положительно работаем круглые сутки… Лекции 8 часов, рабочий труд самый правильный, масса нарядов по хозяйству, по службе, по роте… По вторникам и четвергам репетиции… И это так хорошо: забываешь наше изгнание, вечно идет энергичная кипучая работа. Я очень доволен. Сыт, одет, о завтрашнем дне не думаю – и учусь, учусь… Мы проходим очень хороший курс учения, подбор преподавателей великолепный, винтовок хватает, и мне так нравится этот русский кипучий муравейник с заветами старины, с традициями, с крепким военным морским духом…»
Учение кончается. «…Знаешь, как-то жалко расставаться с корпусом, синим воротником и узенькими погонами, хотя, расставшись с ними, мы будем носить козырьки и широкие погоны и будем свободными людьми… Не хочется покидать наше «государство в государстве», где не услышим ни одного слова не по-русски… Кажется, что, покинув Бизерту, мы покидаем последний клочок русской земли…»
Но время идет. «…В моей жизни много перемен с тех пор, как я тебе писал. К 1 ноября я кончил корпус, а 19 ноября на традиционном обеде по случаю дня основания Петром Великим Навигацкой школы произведен в корабельные гардемарины. Всех нас перевели на эскадру, меня назначили на один из наших вооруженных ледоколов… Французское правительство продает наши корабли за долги, таков был договор. Они не могут продать только «Пылкого», «Дерзкого», «Беспокойного», крейсер «Генерал Корнилов» и линейный корабль «Генерал Алексеев» – их будут содержать пять лет. Они увели отсюда наши лучшие в мире плавучие мастерские, транспорты «Кронштадт» и «Добычу»… Взяли «Дон» и нефтяник «Баку»… Адмирал сказал, что в новом году средства совсем иссякнут, и если кто имеет что в виду, пусть уезжает… Когда «Всадника» продадут, меня переведут на «Корнилова», а там, может быть, на все четыре стороны… Как хотелось бы поехать в Прагу учиться…»
Пробил час. «Всадника» продали. Он на «Корнилове». «На крейсере жизнь гораздо лучше. Здесь сохранилось больше порядка, и жизнь идет правильнее и здоровее. До обеда с 8 часов 15 минут до 11 часов 30 минут – работы по кораблю, починка, приборка, подкраска, палубные работы, а после обеда начинается моя личная жизнь. У меня байдарка и корабельная «шестерка», на которых я хожу под парусами, гоняясь с двумя ботами с «Генерала Алексеева»… Затем я занимаюсь стиркой: стирать я люблю, но с каждой стиркой замечаю, что бязь становится все тоньше и реже… Но главное для меня – мой письменный стол: здесь я читаю, учусь, пишу письма и обдумываю все интересующие меня вопросы… Есть еще часы в моей жизни – это музыка и пение в кают-компании. У нас есть механик, лейтенант М., удивительно хорошо поющий, а мой сожитель – прекрасный пианист… О России я не думаю так много, как ты. Я употребляю это время для личного усовершенствования, чтобы отдать ей как можно больше. И вот я учусь, учусь – и думаю о Праге…»
Через некоторое время юноша пишет: «…Я чувствую себя прилично, здоров, бодр, нагоняю мускулы работой, греблей, гимнастикой. Мы ведем теперь очень здоровую жизнь, весь день на палубе, жаримся на солнце… Спим тоже на палубе, купаемся каждый день… Помнишь, каким я был узким и слабогрудым, а теперь я считаюсь одним из первых и с удовольствием вижу, как становлюсь все шире в плечах…»
