Россия и Дон. История донского казачества 1549—1917.
Text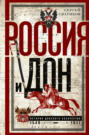


Zum Hörbuch
- Größe: 900 S.
- Kategorie: Geschichte, beliebt
Итак, казаки были слугами царю и России, но не рабами и не подданными. Они были гражданами родственной по происхождению, по вере, по языку, но самостоятельной свободной республики.
Но можно ли утверждать, что Дон был вполне независимым от Руси государством? Нет, зависимость от Руси была. Одни ученые определяют ее как «союз»[112], но относят союзные отношения к эпохе до 1549 г. Другие, как Платонов, говорят о «протекторате»[113]. Последняя формула наиболее простая и заманчивая по своей простоте.
Мы предлагаем определение «вассалитета» как формулу взаимоотношения Московского государства и Донской колонии («Войска Донского») и обосновываем его следующими соображениями: в отписке 5 ноября 1613 г. колония, сильно потрепанная событиями Смуты, сообщает, что казаки «осели по юртам», что Войско, как таковое, во время Смуты «много лет ожидало будущих благ» (субсидии со стороны метрополии), но «на кроворазлитие нигде не дерзнуло» во имя общенациональных интересов («ради царского и земского строенья»). Но война с Азовом и получаемая с него «для перемирья» определенная дань была одним из средств добывать нужные для колонии средства. Поэтому колония «била челом» царю о своей «нужде» и заявляла, что готова «служити польскую службу» Михаилу «как прежним государям». Царь послал Дону знамя, и это было первое знамя, принятое Войском от царей московских. Это была своего рода инвеститура. Передача сношений с донцами в Посольский приказ в том же 1614 г. обозначала признание их особым народом, а колонии – особым государством. Со своими подданными через Министерство иностранных дел, и только через него, не сносятся. Пожалование знамени было повторено в 1646 г. Алексеем Михайловичем и затем повторялось последующими государями. Только Войско связывало с этим пожалованием знамени, и в XVIII в., значение гораздо большее, нежели цари и Военная коллегия.
Вассал получал от сюзерена бенефиции или феод за службу. Если найдется грамота Ивана IV казакам на владение р. Доном, то и эту параллель с вассалитетом можно будет провести. Мы, однако, полагаем, что казаки завоевали сами свою землю, а не получили ее в дар за службу. Однако же служба их носила вассальный характер военной поддержки сюзерена. Правда, дани они не платили, наоборот, сами получали жалованье, что делает связь их положения с вассалитетом – слабее. В отличие от правителя-вассала, который утверждался или «признавался» сюзереном, донской атаман избирался Войском и не нуждался ни в чьем утверждении и признании. Так было до второй половины царствования Петра I. Равным образом до 1709 г. атаман, лично, никакой инвеституры от царя не получал (знамя давалось Войску). Знаком атаманского достоинства был жезл – «насека». Войско имело собственную печать («елень пронзен стрелою»). И только в 1705 г. царь Петр дал Войску свои клейноды (знамя, пернач, бунчук).
Формой сношений царя с Доном были царские грамоты, посылавшиеся через Посольский приказ с особыми посланниками, иногда с русскими послами в Турцию, ехавшими по Дону через Азов в Константинополь, иногда с гонцами. Войско Донское настолько привыкло к этому способу сношений, что требовало царской грамоты через Посольский приказ даже тогда, когда воеводы соседних русских городков обращались на Дон по уголовному делу[114]. В 1723 г., подчиненные уже ведомству Военной коллегии и получая от нее указы, донцы просили «полного царского указу» об отправке 1000 казаков на Дербент[115]. Во время восстания на Дону, в 1772 г., казаки заявляли об указе Военной коллегии, что на нем нет «ручки нашей государыни», то есть собственноручной подписи императрицы Екатерины II. То же было и при восстании 1792 г. по поводу повеления переселить часть казаков на Кубань. Даже в XIX в., в 1879 г., заявляя свое неудовольствие против земства, в той форме, как оно было введено в 1876 г., верховые казаки заявляли: «Не хотим мы земства, это наше начальство его выдумало, а царь про то не знает. Подай нам подлинную Ляксандрову руку, тогда мы поверим»[116].
Правда, в эпоху ликвидации Смуты (в 1614 г.) обращались к донским казакам астраханские воеводы, призывая их «на ратную службу по государеву указу», и казаки им ответили. Но астраханский воевода именно имел право иностранных сношений[117].
Еще одна характерная для вассала черта – это если не отрицание права международных сношений, то ограничения, и довольно сильные, в этой области. В течение XVI–XVII вв. цари неоднократно пытались ограничить право Войска Донского на международные сношения.
Внешние сношения Войско имело с Московским государством, с Азовом, который за дальностью от Константинополя вел своеобразную и довольно самостоятельную политику; с крымским ханом; с турецким султаном; с польским королем; с шахом персидским («кизылбашским»); с главами орд нагайских татар и калмыков, с казачьими войсками, то есть вольными республиканскими колониями Запорожья, Волги, Яика, Терека. Здесь не место излагать историю внешних сношений Дона, однако нельзя не заметить, что с Азовом, принадлежавшим туркам, казаки годами вели войну, в течение почти двух веков. В этом отношении политика казаков была совершенно самостоятельна, и обе стороны воевали до изнеможения, рискуя вовлечь в войну и Турцию, и Россию. Масса грамот была послана царями на Дон с увещаниями не вести войны с Азовом или ради того, чтобы послы могли проехать из Турции или в Турцию, или во имя общерусской политики.
Между тем полуторавековая борьба донцов с азовцами выработала своеобразные формы сношения. Казаки посылали для заключения мира в Азов двух казаков «мировщиков», взамен которых присылались два татарина от бея Азовского заложниками, или, как их звали, аманатами. Если присылали турки, то переговоры вел их переводчик, а у донцов войсковой толмач. Они «мерялись о перемирии и о окупех ясырских», то есть о выкупе военнопленных. Казаки обычно, в середине XVII в., «бирали на миру по 10 человек русково полону, и на станицы – золотые, и котлы большие, неводы и нити на илымы рыбные и соли по 3 кочтаря на станицу». «Золотых» уже в начале XVII в. платили азовцы по 1000 штук каждое перемирие. Договор утверждался обоюдной присягой: «лучшие» азовские люди «шертовали» перед казаком-татарином, а атаманы перед «греческим попом», которого турки присылали из Азова. Иногда азовцы вводили в «мирную грамоту» условие осведомлять взаимно друг друга о намерениях своих сюзеренов (Турции и России) и огорчались, что донцы не исполняли этого обещания.
Иногда азовцы отзывались, что «им ныне разорение, заплатить нечем, никаких судов с товары и с султанским жалованьем к ним не бывало… а будет-де за то (казаки) и розмирятца, и они с ними готовы…». Казаки, получив такое известие, «собирали круга с четыре и приговорили всем войском с ними розмиритца». Сторона, желавшая воевать, посылала «розмирную грамоту». Азовский Резен-паша еще в 1713 г. посылал казакам самостоятельно (помимо султана и царя) «розмирное письмо»[118].
Грамоты Войску адресовались следующим образом: (войсковому атаману) «Ивану Каторжному от Мустафы князя и от Али-бея и от всех Озовских ратных людей челобитья», или еще: «грамота азовского паши Мустафы. Тебе, атаману, Ив. Каторжному, челобитье да всему Войску по челобитью ж…» «Лист» крымского Мурад-Гирей Хана к донским казакам имел заголовок: «Наше Мурат-Гирей Ханова Величества слово. В Исусове законе почтенному, честных христианских народов в Черкасском городке атаману и всем на Дону будучим многим казакам наше ханово письмо сие есть…» О после своем хан писал: «Сие наше достойное письмо написав, из великих огов наших послали одного человека агу». В частности, в 1682 г. хан грозил войною в случае нападения на Крым донских казаков, так называемых «зипунников», то есть тех, которые ходили за добычей, за зипунами. Хан звал этих зипунников «бешъбаши» и добавлял: «И что повоюем ваших городков, оттого у нас с Московским государством дружба не нарушитца».
В 1650 г. пришла грамота: «От Богдана Хмельницкого – гетмана Запорожского и ото всего войска великого Запорожского атаману и всему товариству Войска Донского доброго здоровья, яко братьи нашей, от Господа Бога верьно зичим» (желаем). Подпись гласила: «Всему Войску Донскому зичливые приятели Богдан Хмельницкий… рукою власною» (собственною)[119].
Сами донские казаки обращались к другим войскам казачьим с такими грамотами: «Великому и славному рыцарскому Волжскому, Терскому и Яицкому войску и всех рек пресловутых господам атаманам и казакам и всему великому войску». Надпись на донской грамоте 1614 г. гласила: «Великие Российские державы и Московские области оберегателям, волжским, терским и яицким атаманам и молодцам и всему великому войску»[120]. Таким образом, казачество сознавало свое значение «сберегателей» России.
Интересно отметить, что Яицкое войско не стало (в 1614 г.) за Заруцкого; что же касается волжских казаков, то часть их приняла донские грамоты, а «казаки Калмаковы станицы Донские грамоты изодрали: нам-де донских казаков не слушивать…»[121].
Царское правительство двояко относилось к факту сношений Войска с другими державами и народами. По отношению к одним оно не протестовало против сношения Войска с ними. Иногда даже оно само обращалось к Войску, прося его войти в сношение и действовать в общерусском интересе. Так, в 1613–1614 гг. Земский собор просил о посылке грамот от Войска на Волгу, Яик и Терек, а во второй половине XVII в. московское правительство неоднократно просило Дон о сношениях с калмыками. И в 1682 г. атаман Фрол Минаев по московской просьбе посылал «добрых знающих молодцов», «выборных посыльщиков», и «на Еик к Еицкому войску и на Терек к Терским казакам, и к Гребенским казакам». Связь донцов с яицкими казаками Фрол Минаев в 1690 г. объяснил так: «Яицкие-де казаки издавна Донскому Войску в послушании и обо всяких делах меж себя пересылку имеют и больших дел безо всякого их права у себя не вершат, а присылают к ним на Дон»[122]. Но не сношения Дона с его вольной колонией, Яицкой республикой, и даже с казачьими демократиями вообще волновали московское правительство.
По отношению к другим оно всегда было настроено отрицательно и пыталось запретить Войску сношения. Почти ежегодны были увещания царя, чтобы казаки с азовцами «в миру жили». Конфликты Москвы с Доном на этой почве были весьма серьезны и влекли иногда чрезвычайные последствия. Однако казаки сносились с азовцами и вели самостоятельную политику с Азовом до 1713 г. Постоянные морские экспедиции казаков к берегам Крыма, Анатолии, вплоть до предместий Константинополя, грозили, как и война казаков с Азовом, разрывом России с Крымом и Турцией. «Какими обычаи, – спрашивал 10 марта 1623 г. Михаил Феодорович казаков, – вы так, атаманы и казаки, без нашего указу учинили (напали на Трапезунд) и мешаете туркам воевать с польским королем, недругом и разорителем Российского государства»[123]. Посылая посла с этой грамотою на Дон, царь давал ему тайную инструкцию разузнать, «нет ли к казакам присылки от Литовского (Польского) короля, и будет есть, и о чем, и сколь давно, и что о том казаки мыслят, в каковой мере вперед хотят быти с Литовским королем и с казаки запорожскими». В 1627 г. посылаются донцам упреки в союзе «с запорожскими черкасы, а сами ведаете, что запорожские черкасы служат польскому королю».
Но в 1637 г., из Азова, казаки сообщали царю, что (по царской грамоте о том) они писали запорожцам «от себя накрепко, чтоб они заодно с нами на твоих государевых недругов, на Крымских и Ногайских людей, стояли и помочь чинили твоему Московскому царству…». «И мы, государь, пошлем вскоре нарочно к Запорожскому Войску своих донских казаков»[124].
В 1662 г. было велено казакам ссылаться с гетманом Малороссийским Брюховецким о совместном «промысле» над Крымом[125]. 18 июля 1672 г. предписано было снестись с запорожским кошевым атаманом о походе на Крым[126]. В 1685 г. казакам пришлось оправдываться в обвинении со стороны Москвы в том, что они советовались с запорожцами о походе на помощь к польскому королю. «Писали к нам, – объясняли донцы, – они, Запорожцы, о своем совете и любви, чтоб река с рекою меж собою совет и любовь имели и о всяком деле ведомость чинили; и мы, сопротив того, им писали-ж, любовь и совет иметь с ними рады, а в прежние годы мы с ними списывались и совет имели и никогда с ними во вражде не бывали, и о воинских делах ведомости чинили; а ныне мы о совету Польского короля ничего к ним не писали, только писали о своем казачью совету, чтоб нам с ними во вражде не быть»[127].
Таким образом, Донская колония считала своим исконным правом сноситься с подобными ей вольными демократиями Юга и Юго-Востока и продолжала это делать и после присяги на верность (в 1671 г.). Ей казалось естественным, чтобы одна республика с другою («река с рекою») писали друг другу «о своем казачью совету».
Мы не будем перечислять сношений казаков с ногайцами, многих из которых они, путем дипломатических переговоров, привели к подданству России, сношении с калмыками, с которыми они иногда сносились по прямому указанию царя, иногда самовольно воевали и заключали союз для совместной борьбы с татарами.
Мало-помалу указания Москвы в области внешних сношений стали восприниматься казаками, которые не отрицали в принципе права метрополии направлять общую иностранную политику, но часто действовали совершенно самостоятельно.
С 1632 г. мы встречаем заявления казаков, что от таких-то внешних выступлений они воздержались, не имея указа царя. В 1632 г. они «без государева указа громить азовцев не смели». В 1639 г. нагайцы давали им «аманатов», но они не взяли «без государева указу». В 1640 г. приходил «от Кызылбаского шаха (Персидского) Сафея Сафеевича посол Маратках шах Мамедов», казаки «без указу» не посмели его принять. В 1642 г. казаки отослали к царю присланные им от султана «польские листы», «не наруша печатей». Не дали в 1649 г. казаки Хмельницкому людей против ляхов, «не имея указа»…
В 1650 г. на требование хана Крымского покориться ему казаки отослали эти «листы» к царю и писали: «И мы, бедные, и безпомощные и разоренные холопи твои государевы природные, а служим мы и радеем мы тебе, праведному и великому государю, одному и твое государское повеление во всем, исполняем безо всякие хитрости». В 1682 г. присланный султаном Капичей говорил войсковому атаману Фролу Минаеву, «чтобы учинить рубежи и жить безссорно». Атаман ответил, что «им без указу великого государя рубежей с ними чинить невозможно» и что казаки «о тех рубежах будут писать великому государю». В 1684 г. атаман писал, что азовцы нападают, «а мы без вашего, великих государей, указу управит-ца с басарманы не смеем». Хан Крымский обращался к казакам еще в 1718 г., но лист его, конечно, был отослан в Петербург[128].
Однако, наряду с систематическим признанием за царем преимущественного права внешних сношений, казаки вели, как мы видели, самостоятельную внешнюю политику с окрестными народами, заставляли трепетать своими морскими набегами берега Крыма, Анатолии, Румелии и даже Босфора. В 1630 г. им было предложено царем прекратить, наконец, набеги на Турцию и Крым и «итти на государева недруга на польского короля землю с турскими пашами с Муртузою да с Абазою вместе».
Казаки ответили решительным отказом: «мы, писали они, от Божией милости не отступники, а тебе, государь, не изменники и не лакомцы, служим тебе, государю, с травы, да с воды… и во всем себя в твою царскую милость отдаваем и истинную православную крестьянскую веру… помним и крепко держим… а николи, государь, во крестьянстве кроворазлития, как прежде сего, и так и ныне, не хотим и не желаем, и сами, мимо своей крестьянской веры и мимо твоего Российского государства в бусурманскую землю турским пашам на помощь, на литовскую землю идти не хотим».
Ссылаясь на вековую русскую историю и вековую свою службу России, казаки заявляли: «ни при которых бывших царех, мы, донские атаманы и казаки, Мурат-салтанам не служивали и через турскую землю не хаживали, а бывали на многих службах, при бывших государех, посыланы с Москвы с русскими людьми и с бояры и с воеводы, а ныне, государь, по тому жь мы того сердечно радеем и промышляем, чтоб твое великое московское государство… было в покое и в тишине, а нам бы… за тебя, государя, стоять и умирать безо всякие шатости по-прежнему».
Высокоразвитое религиозное и национальное чувство казачества воспротивилось ухищрением иностранной политики сюзерена, государя московского. Они не только воспротивились исполнению царского повеления, но и посол царя, пытавшийся угрозами заставить их повиноваться, был обезглавлен[129].
Право сношений Войска с окрестными народами просуществовало до 1703 г. Если мы сравним это донское неписаное право с правами Малороссии, то увидим, что преимущество было на стороне Дона. В статьях, постановленных в Москве боярами с посланцами гетмана Хмельницкого, на каком основании войску Запорожскому быть в подданстве Российском, 12 марта 1654 г., было указано «послов о добрых делех принимать и отпускать», сообщая немедленно в Москву о цели и результатах, а присланных с делом «противным царскому величеству» задерживать и без указа не отпускать. «А с турским салтаном и с польским королем, без указа царского величества, не ссылаться»[130]. Таким образом, то, что московское правительство в течение целого века пыталось внушить Донской колонии, было введено, как правило, при самом соединении Малой России с Москвой.
Самостоятельное право объявления войны кому бы то ни было отнято еще у Богдана Хмельницкого самим текстом присяги на верность. В «статьях» Юрия Хмельницкого это запрещение было выражено с исчерпывающей точностью. Что касается приема послов, то право это было почти отнято уже у Юрия Хмельницкого. Ему дозволили принимать послов лишь от «господарей» Валахии и Молдавии, да и то лишь «о малых делех», по «великим же делам» отсылать их бумаги к царю (§ 7).
«Статьи» же гетмана Брюховецкого 1665 г. (§ 9), писанные в Москве, и Глуховские статьи гетмана Многогрешного 1669 г. (§ 12, 17) строго воспретили всякие сношения, каковы бы они ни были, с иностранными государствами[131].
Изложенная нами вкратце история внешних сношений Войска, в связи с историей вопроса о присяге, убеждает нас в том, что Донская колония в XVII в. признавала зависимость от метрополии, несла вассальную службу, но власть метрополии была слишком незначительна и зиждилась более на доброй воле самой колонии, нежели на твердой правовой основе и на властных велениях сюзерена.
Глава 10
Дон и царская власть в 1614–1671 гг
Независимая политика Дона вызывала неоднократные жалобы, увещания, угрозы и репрессии со стороны метрополии. Так, в 1625 г. Михаил Феодорович жаловался, что казаки отказываются понять его союз с Турцией и Крымом, не хотят идти против Польши и «живут все самовольством», громят берега Турции и Крыма, упорствуют в поддержании своего союза с Запорожьем. «И то они делают воровством и государеву велению во всем противятся». Боярам повелено было, в разговоре с донскими послами, все это «выговорити им сердито».
«Писано вам во многих грамотах, и вы то наше царское повеление ставите ни во что… и то нам в великое подивление…» Царь напоминал казакам «прежнюю неволю» и свое к ним «милосердое жалованье»: «прежних ваших грубостей, которые есте учинили Московскому государству, мы ничего не попамятовали…» Царь напоминал казакам о всегдашнем торжественном приеме им лично казачьих послов, о субсидии Войску деньгами, воинскими припасами и хлебом, о дарованном казакам праве торговли с украинными городами и приезда их на Москву. Мы, писал царь, «вольность вам учинили, чего изначала ни при которых государех не бывало». Царь объяснял и причину такого отношения: «а то есмя все чинили, чтобы вы нашего повеления слушали» и не воевали с Турцией и Крымом. Но казаки «повеления николи не слушали»: «помочи» против Польши не дали; на Волге, Яике и Каспии шли грабежи.
Царь угрожал за дальнейшее ослушание репрессиями: «и нам за такие ваши грубости жаловати будет не за что и в городы ни в которые вас пускать и с запасы ни с какими из городов к вам ездить не велим». Чтобы усилить впечатление, царь приказал схватить атамана зимовой станицы Алексея Старово и 5 казаков и послать их в ссылку «для береженья», как говорилось в указе, и «корм им давать не от велика». По приезде посольства в Белоозеро «велено у них быть приставу и корму им не давать, ив двора никуда не спускать», и чтоб никто «письма к ним не привез и у них не взял». Тюремное заключение посольства длилось два года[132]. Это была обычная в то время форма международной репрессии на Востоке. Перерыв сношений был закончен примирением в 1627 г.
Однако уже в том же 1627 г. патриарх Филарет, истинный руководитель всей политики, именем царя снова угрожал казакам: «или того себе чаете, что мы, великий государь, не можем с вами управитца»[133]. За дальнейшее непослушание угрожал царь «казнити смертию» казаков.
2 июля 1629 г. последовала новая грамота, что царь и патриарх на казаков «кручиноваты, какими обычаи вы так делаете не по нашему указу». Грамота угрожала казакам «от патриарха… быти в полном запрещенье» – угроза для верующих людей очень серьезная[134].
Наконец, гнев царя разразился. На Дон в 1630 г. послан был дворянин Иван Карамышев с грозным указом. С полным сознанием прав метрополии, грозности царского гнева против колонии, Карамышев приехал на Дон в Войско. «И, – описывали казаки царю, – приехав тот Иван Карамышев нас, холопей, хотел казнью смертною казнить, вешать и в воду сажать и кнутьями достальных бить, и мы, холопи, твоего государева указу и грамоты», на это у Ивана Карамышева «не поединожды спрашивали, и он ответил: «нет-де у меня государевой грамоты и ни наказу, ни какого твоего государева указу нам не сказал, а нас своим злохитрством и умышленьем без винной вины хотел казнить, вешать и в воду сажать и кнутьями бить и кожами резать, а сверх того, Иван Карамышев учаль с крымскими и с нагайскими людьми ссылатца, чтоб нас всех побить и до конца погубить и разорить и искоренить и городки наши без остатку пожечь, чтобы наше донских атаманов и казаков, на Дону и по заполью, везде имя казачье не именовалось…»
Такая попытка представителя метрополии уничтожить вольную колонию при помощи казней и разорения, при поддержке коренных и извечных врагов России и казачества, потрясла душу свободных граждан Дона до самой глубины и придала их словам, обращенным к царю, силу и мощь, и выразительность истинно библейские:
«И мало тот Карамышев, за грехи паши, попущением Божьим, а действом диаволим, того своего злоумысла не совершил было, но благий, всещедрый, человеколюбивый и в Троице славимый Бог наш неостави достояние своего до конца, и молитву и смирение раб своих услыша и к тебе, государю, правую нашу службу видев, прореченную пророком: «посещу жезлом беззаконие и ранами неправды их, милость же свою не отиму от них», и помиловал Бог нас грешных, объявил нам Христос то злоумышленье Ивана Карамышева, что он без твоего, государева, указу, умыслил всех нас на Дону, низовых и верховых, побить, и городки наши дожечь, и мы, холопи твои, видя его, Иваново, над собою злоухищренье от горести душ своих, за его великую неправду того Ивана Карамышева обезглавили».
Таков был ответ Донской республики на попытку беседовать с ее гражданами языком, обычным на Москве! Правда, казаки отговаривались, что если бы Карамышев предъявил царский указ, то ему они подчинились бы: «как противу солнца зреть нельзя, так противу тебя, великого государя, нам, холопем твоим, бесстрашным быть нельзя. Ты, государь, волен в головах наших, а без твоего указу Карамышеву нас всякой казнью казнить было не за что».
Казаки готовы были покинуть Дон и уйти искать новых земель. «И, писали они, будет, государь, мы тебе на Дону реке негодны и великому твоему, государеву, Российскому Московскому государству неприятны… тебе и всей земле ненадобны, и мы тебе, государю, не сопротивники: Дон реку от низу и до верху, и реки запольные все тебе, государю, до самых украинных городов Крымских и нагайским людем распространим, все очистим, с Дону с реки сойдем»[135].
Метрополия прервала всякие сношения с колонией. Послы казачьи, бывшие в Москве, атаман Наум Васильев и 70 человек казаков, посланных для охраны послов русских, приехавших из Константинополя, были «все по городам (вне Москвы) разсожаны и показнены, а иные перекованы, пометаны в заключение, помирали голодной смертью». Нужно было или идти войною на непокорную колонию, в южные степи, или же действительно приказать казакам, как они предлагали, очистить Дон с вершины до устья и фактически отдать его татарам, обнаживши всю южную окраину царства от мощного заслона, которым являлась Донская республика.
Если со стороны прямолинейных слуг самодержавия возникали планы стереть Донскую республику с лица земли даже при помощи врагов России, то и с Дона приходили вести, что республика ищет союзников против царских войск. После убийства Карамышева состоялся съезд всего Войска, шумели на атамана, «почему не побил и послов», ехавших из Константинополя обратно в Россию, «все равно мы уже заворовали, с Москвы хоть 100 000 пришлют, то мы не боимся, соберемся в один городок». Были посланы на Днепр послы в Запорожскую республику.
Тайные разведчики доносили в Москву, что в 1632 г. весною у казаков прошел слух, будто царь «указал послать на Дон посылку, чтоб нас, холопей его, всех з Дону сбити, и по Дону-де будет государевы городы ставить… У Донских-де казаков с Запорожскими Черкасы приговор ученен таков: как приходу откуды чаять каких людей многих, им взаимно помогать, а Дону-де, – заявляли казаки, – «нам без крови не покидывать»… Словом, был заключен оборонительный союз двух казачьих республик против Москвы, и готовились к вооруженной борьбе.
Однако, если Москва не могла решиться и не в силах была нанести Дону удар, если ей необходимо было содействие Дона в охране южной украины государства, то и Дону приходилось несладко от военной и экономической блокады с севера и с востока. «Донские и Яицкие казаки в нижних и верхних городках говорили: токо-де к нам на Дон нынеча на весне (1632) не будет государева жалованья и ево государева жалованнова слова, и мы-де пойдем з Дону в Запороги к Литовскому королю на службу, тогда-де от него к нам письмо будет»[136].
Обстоятельства и самое взаимное положение метрополии и колонии диктовали им заключение мира, и сношения возобновились. «Которые казаки, – писал царь, благодарный Дону за сообщение в 1632 г. о планах вечных врагов-крымцев, – были в нашей опале, и те все взяты к Москве, и наши государские очи видели, и у отца нашего… патриарха у блогословенья были, и нашим государским жалованьем пожалованы и посланы на нашу службу под Смоленск с бояры нашими воеводы»… О казни тех, кто убил посла, не было ни слова.
Однако колония не могла отказаться от самостоятельной политики. В 1637 г., когда турецкий посол Тома Кантакузен жил в Войске, ожидая проезда на север (в Москву), казаки решили вдруг покончить вековой спор с Азовом, заграждавшим им выход в море на главном протоке Донского устья. Созвавши съезд, казаки «меж собой учинили приговор, что однолично над азовскими людьми промышлять». Во время осады Азова турецкий посол пытался послать весть султану о необходимости помочь Азову. «И мы, – писали казаки, – видя его умышленье к тебе, государю, неправду… его посла, за то с его людьми пору били». 28 июня 1637 г. самовольная колония совершила самый блестящий подвиг: неприступный Азов был взят.
Мы знаем, что Смута почти на 100 лет остановила движение России к Черному морю. Только в 1769 г. Азов стал русским, много раз до того переходя из рук в руки. Трудно недооценить значение, которое имело овладение Азовом со стороны Донской колонии. Царь ограничился тем, что напомнил казакам о необходимости, даже во время войны, соблюдать неприкосновенность послов и просил о присылке к Москве оставшихся от Кантакузена документов: Дон нужен был России как заслон от татарской орды.
Взятие Азова повело к весьма интересной переписке Дона с Москвою, определяющей характер их взаимоотношений. Казаки писали царю: «взяли Азов, вам, государям, в отчину» (10 сентября 1640 г.). Им трудно было вести правильную защиту крепости, без достаточной артиллерии, без знания фортификации, без достаточного количества людей. «Бьем челом, – писали казаки, – тобе, праведному великому государю, городом Азовом со всем градским строеньям. А мы не горододержцы»…
И не только в этот момент, но и раньше, и позже называли казаки Дон – «вотчиной» царя, так, в 1654 г. они просили о жалованье «чтоб голодной смертью не помереть и разно б не разбрестись и твоей бы государевы вотчины, реки Дона, впусте не покинуть». Вотчина – наследственное имение на праве собственности; Московское государство построено было на основе вотчинного права великих князей московских. Казалось бы, в своей вотчине царь был полный господин. И, однако, атамана станицы, привезшей царю челобитье о принятии Азова, Михаила Татаринова, царь приказал спрашивать в Посольском приказе, чтобы «он сказал имянно, какой им государев указ о городе Азове надобен, и как тому городу вперед быть». По поводу подлинной «вотчины», то есть непререкаемой царской собственности, нечего было бы предлагать подобные вопросы. Москва отлично умела цепляться за слова, когда хотела округлить свои владения. Достаточно было в свое время послам Новгородской республики обмолвкою назвать великого князя Московского вместо «господина» «государем», как в этом найден был легальный предлог для присоединения Великого Новгорода к Москве. Оказалось, что Азов отдавался действительно в отчину: казаки просили о присылке туда царского воеводы с войсками, желая удалиться в свои Торты.
Таким образом, и слово «вотчина», как и слово «холопи», звучало не всегда одинаково на Дону и на Москве[137].
Вопрос о принятии от казаков Азова был поставлен на обсуждение специально созванного Земского собора 1642 г., который признал невозможным начинать войну из-за него с Турцией, и по царскому указу казаки покинули Азов. Однако на Земском соборе слышались голоса и за принятие Азова, но с тем, чтобы на помощь донцам были посланы вооруженные и снабженные за счет царя «ратные пешие вольные люди, опричь крепостных и кабальных людей…» «А сидети им, – предлагали Никита Беклемишев и Тим. Желябужский, – в Азове заодно с казаками под атаманским началом, а государевым воеводам в Азове быти нельзя, потому что они (казаки) – люди самовольные»[138].
