История России. С древнейших времен до наших дней
Text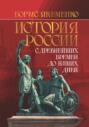


Zum Hörbuch
- Größe: 1620 S.
- Kategorie: Historische Literatur, Geschichte, beliebt
Внутренняя политика
XVI столетие началось с правления великого князя Василия III (1505–1530). Следует прежде всего обратить внимание на взаимоотношения великого князя Василия III и боярства. Вторая половина XV и начало XVI века – время массового притока выходцев из Литвы, Казани и других земель на московскую службу, время не только формирования дворянства, но и укрепления боярства. Пришлые из удельных княжеств бояре и князья вливались в московское боярство, в связи с этим возникала необходимость гораздо строже следить за соблюдением местнических традиций.
Активный приток в Москву и московские пределы пришлого боярства начинает влиять на взаимоотношения между великим князем и боярством в целом – между государем и его окружением неуклонно появляется трещина, грозящая со временем превратиться в пропасть. Из верных советчиков, соратников и помощников князя бояре все больше превращаются в «слуг государевых», к которым у государя складывается и соответствующее отношение. Следует напомнить, что на протяжении XIV и XV веков немногочисленное московское боярство в определенных случаях «коллективным разумом» уравновешивало скромные способности правителя. Бояре на заседаниях Боярской думы могли противоречить великому князю, отстаивая свое мнение и не боясь княжеского гнева или опалы. Выше говорилось о том, что именно московские бояре буквально спасли Василия II Темного в годы династической войны от всех его неудач и неурядиц. Однако уже при Иване III (после женитьбы на племяннице последнего византийского императора Зое Палеолог он как бы сделал себя наследником византийских правителей) происходит резкое возвышение великокняжеской власти по сравнению с предшественниками. И хотя серьезных противоречий между князем и боярством еще не было, начала формироваться система «самодержавия», когда глава государства правит «сам», полагаясь не на коллективный разум, а на собственные представления о благе и пользе.
При Василии III самодержавные тенденции еще более усиливаются. Любой боярин и во всякое время теперь может быть приближен или отдален от особы великого князя. Можно сказать, что в эпоху Василия III рождается такое явление, как политический фаворитизм, ставший определяющим фактором российской политической жизни в XVIII веке. Именно в это время Боярская дума начинает в значительной степени терять свою самостоятельность, которой она обладала раньше, и становится частью двора великого князя.
В качестве наиболее яркого примера развития этого процесса можно привести показательную и очень известную историю второго брака Василия III. Первой женой великого князя была Соломония (Соломонида) Сабурова, из старого боярского рода. Князь прожил с ней около двух десятков лет, однако детей у них не было. Последнее обстоятельство с годами стало беспокоить Василия все больше, поскольку отсутствие наследника угрожало оборвать династическую линию. Это неизбежно повлекло бы за собой жестокую борьбу за власть, которая могла серьезно подорвать устои недавно сложившегося Русского государства. Единственным выходом из сложившегося положения был развод и второй брак. Эту идею Василию III активно подсказывали многие бояре из его окружения. Однако сила традиций была велика: развод считался делом небогоугодным, и Василий колебался долгое время, прежде чем принял окончательное решение.
Глава Русской церкви митрополит Варлаам категорически отказался благословить развод великого князя. Князь пошел на решительные меры: Варлаам был отстранен со своего поста, а на его место назначен Даниил, человек совершенно иных взглядов. Хотя отсутствие детей в браке не являлось основанием для его расторжения, митрополит Даниил обосновал великокняжеский развод «государственным благом» и благословил его.
По традиции того времени после развода бывшая супруга должна была постричься в монахини. Соломония резко воспротивилась этому, однако пострижение состоялось насильно в московском Рождественском монастыре, где и сейчас стоит собор, в стенах которого произошло это событие. Во время пострига княгиня впала в буйство и ее пришлось держать, она вырывалась, не давала надеть на себя монашеские одежды, громко кричала о том, что пострижение совершается насильно, против ее желания (как известно, по христианским канонам насильно постригать в монахи нельзя). Чтобы успокоить княгиню, боярин Шигоня Пожогин, стоявший рядом, хлестнул ее плетью по лицу. Соломония утихла и только сказала: «Бог видит и отмстит моему гонителю». Не прошло и нескольких часов, как новопостриженную монахиню Софию уже везли в Покровский суздальский монастырь. В народе родилась песня:
Уж что это у нас в Москве приуныло,
Заунывно в большой колокол звонили?
Уж как царь на царицу прогневился,
Он ссылает царицу с очей дале,
Как в тот ли во город во Суздаль,
Как в тот ли монастырь во Покровский…
Минуло несколько месяцев – и по столице поползли недобрые слухи о том, что княгиня родила в монастыре наследника, Юрия. Когда же люди из окружения Василия III решили установить истину, Соломонида объявила, что ребенок умер (а на самом деле его тайно вынесли из монастыря), и даже инсценировала похороны и показала всем его могилу. Достоверность этих слухов так никогда и не была установлена, однако некоторое подтверждение они получили в 1934 году, когда на территории Покровского монастыря, рядом с гробницей Соломониды, было обнаружено маленькое белокаменное надгробие XVI века. Под ним в небольшой деревянной колоде, обмазанной внутри известью, лежал истлевший сверток тряпья, видимо искусно подделанная кукла, одетая в дорогую шелковую рубашечку и спеленутая шитым жемчугом свивальником (эту рубашку сейчас можно видеть в музее). Современники же Соломониды еще долго говорили о зловещей разбойничьей банде, бесчинствовавшей на русских землях и возглавляемой якобы княжеским наследником. Среди людей он получил имя Кудеяр, которое навсегда вошло в народные былины, сказания и песни.
«Можно лишь представить, – пишет историк М. Воробьев, – как должны были отразиться на образованном обществе, на боярском сословии такие события, как это обсуждалось и какое было столкновение мнений. Для одних все, что делает великий князь, было безусловно законным, для других – налицо нарушения канонов, законов, обычаев, традиций, попирание религиозных и общественных устоев». Однако, невзирая ни на что, спустя два месяца после расторжения первого брака великий князь женился на Елене Глинской, дочери Василия Львовича Глинского. Свадьба была необыкновенно пышной: жениха и невесту опахивали соболями, преподносили дорогие подарки. Чтобы более понравиться молодой супруге, Василий III даже сбрил бороду, вопреки господствовавшему в то время на Руси обычаю.
Вторую жену великого князя московское общество осуждало. Елена Глинская была воспитана совсем не так, как московские боярышни. Многие ее родственники учились или жили в Европе, и вела она себя не по-московски, ее манеры казались предосудительными. К тому же долгожданный наследник появился лишь спустя три года, в 1530 году. Его крестили в Троицком монастыре и назвали Иваном.
Таким образом, усиление самодержавных тенденций способствовало ухудшению взаимоотношений государя и боярства, что при сыне Василия III Иване IV привело к открытому конфликту и ненависти. Трещина, отделявшая великого князя от всего остального общества, и в первую очередь от боярства, становилась непреодолимой. К тому же власть митрополита для многих перестала казаться незыблемой.
Василий III, продолжая начинания своего отца Ивана III, завершил объединение Руси вокруг Москвы. Он активно пытался овладеть Казанью и предпринял ряд походов на этот город, ни один из которых не закончился удачно. В 1523 году, во время очередного похода, на речке Суре (приток Волги), выше Казани, был выстроен город Васильсурск (город Василия на Суре), ставший русским форпостом в борьбе с Казанским ханством. Определенные успехи были достигнуты в отношениях с Литвой.
Восшествие на престол Ивана IV
После неожиданной смерти в 1533 году Василия III (князь заболел во время охоты под Волоколамском) на великокняжеский престол вступил его трехлетний сын Иван IV. До его совершеннолетия государством должна была управлять его мать – Елена. Ближайший из ее окружения боярин, князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский, имел на нее огромное влияние. Однако Елена умерла в 1538 году, и есть предположение, что она была отравлена (в этом был убежден и сам Иван Грозный). Сразу же после смерти Елены (Ивану было в то время 8 лет) князь Оболенский был заточен в темницу и скончался, как повествует летопись, «от скудости пищи и тяжести оков». Это явилось следствием борьбы за власть между мощными боярскими группировками Бельских, Шуйских и Глинских, которая не прекращалась при Елене, усилилась после ее смерти и происходила на глазах у юного наследника престола.
Личность Ивана Грозного, одна из самых загадочных и трагических в русской истории, всегда привлекала пристальное внимание исследователей. Выдающийся историк В. О. Ключевский дал Ивану одну из лучших в историографии психологических характеристик, помогающую понять многое из того, что делал Иван Грозный в жизни.
«Царь Иван, – пишет В. О. Ключевский, – от природы получил бойкий и гибкий ум, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорусский, московский ум. Иван рано осиротел – на четвертом году лишился отца, а на восьмом потерял и мать, – и поэтому с детства он видел себя среди чужих людей. Именно поэтому в его душу рано и глубоко врезалось и сохранилось на всю жизнь чувство сиротства, заброшенности, одиночества, о чем он нередко вспоминал позднее: „Родственники мои не заботились обо мне“. Живя среди чужих, без отцовского надзора и материнского утешения, Иван рано усвоил себе привычку ходить, оглядываясь и прислушиваясь, что впоследствии развило в нем подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое недоверие к людям вообще. В детстве ему часто приходилось испытывать равнодушие или пренебрежение со стороны окружающих, и это запомнилось на всю жизнь. На склоне лет он вспоминал, как его с младшим братом Юрием в детстве стесняли во всем, держали как убогих или нищих людей, плохо кормили и одевали, не давали ни в чем воли и все заставляли делать насильно и не по возрасту.
С юных лет он привык видеть вокруг себя лицемерие и фальшь – на торжественных церемониях (при выходе или приеме послов) его окружали царственной пышностью, становились вокруг него с раболепным смирением и склонялись пред ним до земли, а в будни за закрытыми дверями теремов и палат те же люди совершенно не церемонились с ним, иногда баловали, нередко и дразнили. „Играем мы, бывало, с братом Юрием в спальне покойного отца, – вспоминал Иван, – а первенствующий боярин князь И. В. Шуйский развалится перед нами на лавке, обопрется локтем о постель покойного государя, отца нашего, и ноги на нее положит, не обращая на нас никакого внимания, ни отеческого, ни даже властительного“. Та горечь, с какой Иван вспоминал об этом 25 лет спустя, дает почувствовать, как часто его сильно и несправедливо обижали в детстве. Его ласкали как государя и оскорбляли как ребенка. Но в той обстановке, в которой шло его детство, он не всегда мог тотчас и прямо обнаружить чувство досады или злости, сорвать сердце, разрыдаться. Эта постоянная необходимость сдерживаться, дуться в рукав, глотать слезы рождала в нем глухую раздражительность, затаенное, молчаливое озлобление против жестоких и бессердечных людей, злость со стиснутыми зубами. Нередко он видел вокруг себя страшную, звериную жестокость, которая ужасала его и оставила глубокие следы в его сердце».
Однажды, в 1542 году, когда правила группировка князей Бельских, сторонники князя И. Шуйского ночью врасплох напали на стоявшего за их противников митрополита Иоасафа. Спасаясь, митрополит скрылся во дворце великого князя. Мятежники бросились за ним во дворец и на рассвете вломились с шумом в спальню маленького государя, разбудили и напугали его, завязав в его присутствии страшную и жестокую драку. По воспоминаниям Андрея Курбского, Иван уже в детстве начал обнаруживать жестокость: сбрасывал с кровель высоких теремов собак и кошек и наблюдал их мучения, а став постарше, носился с компанией боярских отпрысков на лошадях по улицам, задирал и оскорблял прохожих, разбивал и опрокидывал лотки торговцев с товарами. Когда ему было 13 лет, он неожиданно отдал приказ псарям схватить боярина князя Андрея Шуйского (положение Шуйских при дворе в то время было прочным), и казнить, причем Шуйского просто забили насмерть кулаками, пока волочили через двор по направлению к конюшням.
В это же время он довольно много читал. Из его переписки можно сделать вывод, что он был очень начитан в Священном Писании, знал наизусть и цитировал большими кусками Псалтырь, Евангелия, Апостол, некоторые пророческие книги.
«Однако его ум скорее был именно запоминающим, а не творческим, – пишет В. О. Ключевский. – Не случайно некоторые исследователи считают его начетчиком[1], а не глубоким мыслителем. Живя в вечной тревоге, Иван рано привык думать, что окружен только врагами, и воспитал в себе склонность всюду видеть бесконечные сети козней и заговоров, которыми, как ему казалось, его старались опутать со всех сторон. Это заставляло его постоянно держаться настороже; мысль, что вот-вот из-за угла, внезапно, на него бросится недруг, стала привычным, ежеминутным его ожиданием. Всего сильнее работал в нем инстинкт самосохранения, и все усилия его бойкого ума были обращены на развитие этого грубого чувства.
Как все люди, слишком рано начавшие борьбу за существование, Иван быстро рос и преждевременно вырос. В 17–20 лет он уже поражал окружающих непомерным количеством пережитых впечатлений и взвешенных, обдуманных мыслей, до которых многие его современники не додумывались и в зрелом возрасте. Так, в 1546 году, когда ему было 16 лет, среди ребяческих игр он вдруг заговорил с боярами о женитьбе, заговорил так обдуманно и с такими предусмотрительными политическими соображениями, что бояре расплакались от умиления, что царь так молод, а уж так много подумал, ни с кем не посоветовавшись и от всех утаившись. Эта ранняя привычка к тревожному уединенному размышлению развила в нем болезненную впечатлительность и возбудимость, которые ощущаются в его словах и поступках.
Он был очень непостоянен: минуты усиленной работы ума и чувства нередко сменялись полным упадком душевных и телесных сил, что приводило к приступам меланхолии и раздражительности. Поэтому неудивительно то, что Иван, сделав или задумав сделать много хорошего, умного, даже великого, вместе с этим совершал много поступков, которые вызывали у современников и последующих поколений ужас и отвращение. Разгром Новгорода по одному подозрению в измене, страшные московские казни, убийство сына митрополита Филиппа, бесчинства опричников в Москве и Александровской слободе создают образ зверя, которому было чуждо все человеческое.
Но он не был таким. По природе или воспитанию, очевидно, он был лишен устойчивых нравственных ориентиров и при малейшем житейском затруднении охотнее склонялся в дурную сторону, нежели в хорошую. От него ежеминутно можно было ожидать грубой выходки, поскольку он совершенно не умел сдерживаться. Так, в 1577 году на улице завоеванного ливонского города Кокенгаузена он благодушно беседовал с лютеранским пастором о богословских предметах, но едва тот неосторожно сравнил Лютера с апостолом Павлом, Иван ударил пастора хлыстом по голове и ускакал со словами: „Поди ты к черту со своим Лютером“. В другой раз он велел изрубить присланного ему из Персии слона, не хотевшего стать перед ним на колени.
Его приближенным труднее всего было приобрести его доверие. Для этого им надо было ежеминутно давать царю чувствовать, что его любят и уважают, всецело ему преданы, и кому удавалось уверить в этом Ивана, тот мог пользоваться его доверием. Однако в этих случаях в царе нередко обнаруживалась тяжелая, болезненная привязчивость, рожденная также, очевидно, безрадостным детством и отсутствием родительского тепла и ласки. Свою первую жену Анастасию он любил какой-то особой, трагической любовью. Так же безотчетно он был привязан к Сильвестру, Адашеву, Макарию, а потом и к Малюте Скуратову. Это соединение привязчивости и недоверчивости выразительно сказалось в духовной грамоте Ивана, где он дает детям наставление, „как людей любить и жаловать и как их беречься“.
В минуты успокоения, в те моменты, когда он освобождался от внешних раздражающих впечатлений и оставался наедине с самим собой, со своими задушевными думами, им нередко овладевала грусть, к какой способны только люди, испытавшие много нравственных утрат и житейских разочарований. Кажется, ничего не могло быть формальнее духовной грамоты древнего московского великого князя с ее мелочным распределением движимого и недвижимого имущества между наследниками. Но царь Иван и в этом акте выдержал свой лирический характер. Эту духовную он начинает возвышенными богословскими размышлениями и продолжает очень показательными словами: „Тело изнемогло, болезнует дух, раны душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы исцелил меня, ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого, утешающих я не нашел, заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь“».
Царь был загадкой для современников и остался ею для потомков. Всю жизнь он стремился к мистике, таинственному Божественному духовному миру, раскрывающемуся за пределами человеческой жизни. Именно этим можно объяснить и его любовь к драгоценным камням, мистические свойства которых он изучал, и устройство бесконечных подземных ходов везде, где бы он ни поселялся, и создание жуткого опричного ордена в Александровской слободе, окруженного монастырскими стенами, члены которого были облачены в монашеские одежды. Известна его обширная переписка – и нет ни одной строчки, ни одной буквы, написанной царем самолично. Он владел огромной уникальной библиотекой – она исчезает бесследно после его смерти, и поиски ее ведутся уже не одно столетие.
Во многом именно черты его личного характера дали особое направление его политическому образу мыслей, сформировали совершенно особую эпоху – эпоху Ивана Грозного.
В 1547 году Ивану IV исполнилось 16 лет, и он заявил митрополиту Макарию о том, что желает венчаться на царство и вступить в брак. Вскоре эти намерения были осуществлены. Венчание на царство произошло в том же 1547 году по старинному чину, введенному еще Иваном III, однако с некоторыми изменениями, поскольку Иван IV впервые в русской истории венчался не на великое княжение, а на царство. Во время торжественной коронационной церемонии на Ивана был возложен крест, затем бармы – знаки княжеского и царского достоинства, шапка Мономаха, после чего Иван торжественно воссел на трон рядом с первосвятителем Русской православной церкви на амвоне Успенского собора. Позднее Иваном Грозным для подобных торжеств было создано специальное царское место – деревянный резной шатер, под которым надлежало находиться будущему государю во время коронации (в наши дни он по-прежнему находится в Успенском соборе Московского Кремля). Таким образом Иван IV стал первым в истории России царем, а Московское государство – царством.
После коронации в различные города были разосланы царские грамоты, предписывавшие князьям, боярам и дворянам присылать своих дочерей на смотр специальным государевым наместникам. Последние отделяли самых статных и красивых девушек и отсылали в Москву для смотрин. Таковых набралось более тысячи человек, и свой выбор Иван IV остановил на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой, происходившей из древнего боярского рода. 3 февраля 1548 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось бракосочетание, а уже через две недели царская семья выехала на богомолье в Троицкий монастырь, причем царь, невзирая на зиму, шел пешком.
Однако вскоре радость от коронационных и свадебных торжеств была омрачена: в апреле в столице начались пожары, в результате которых выгорела часть торга в Китай-городе, а одна из башен стены взлетела на воздух от взрыва пороха и запрудила реку кирпичами. В начале июня случилась новая беда. Во время благовеста со звонницы в Кремле упал большой колокол, и у него отбились уши. Вся Москва очень встревожилась этим событием, сочтя его недобрым предзнаменованием. Даже царь Иван, находившийся в Коломне, срочно возвратился в Москву и приказал как можно скорее восстановить колокол. Но предзнаменование оправдалось.
21 июня вспыхнул небывалый даже по тем меркам пожар, который современники назвали «великим». Он начался на Арбате, а, на беду0 поднявшаяся буря погнала огонь на Кремль, в котором загорелись верх Успенского собора, крыша царских палат, двор казны и митрополита, Благовещенский собор и царские конюшни. Митрополит Макарий, едва не задохнувшись в дыму, вынес из Успенского собора храмовый образ Успения Богоматери, написанный святителем Петром, и побежал к Тайницкой башне, которую уже начало заволакивать дымом. Находящиеся на башне люди обвязали владыку канатом и начали спускать вдоль стены на берег Москвы-реки, но тот оборвался, и митрополит так разбился, что едва пришел в себя и был увезен в Новоспасский монастырь. Царь с семьей и боярами, спасаясь от огня, выехал под Москву в село Воробьево.
В течение 10 часов сгорела почти вся столица до черты позднейшего Земляного города, около четырех тысяч человек погибло в огне. Несчастьем воспользовались враги Глинских, которые начали распространять слухи, что Москву подожгла бабка царя, Анна Глинская. Она будто бы разрывала могилы, вынимала из покойников сердца, высушив их, толкла, а порошок, полученный таким способом, сыпала в воду, которой и кропила московские дома, после чего они сами и загорались. Москва была взбудоражена.
На следующий день после пожара Иван Васильевич приехал в Новоспасский монастырь навестить митрополита Макария, приходившего в себя после падения с башни. Здесь некоторые бояре донесли до слуха царя столичные разговоры о поджигателях Глинских (при молчаливом сочувствии митрополита). Царь приказал провести следствие. Через два дня возбужденная толпа собралась перед Успенским собором в Кремле; здесь же были и бояре, проводившие поиски виновников пожара Москвы. На вопрос бояр о том, кто сжег Москву, в ответ закричали, что во всем виноваты Глинские. Дядя Ивана Грозного Юрий Глинский, находившийся здесь же, на площади, увидев ярость толпы, в ужасе побежал к Успенскому собору, надеясь спастись в священных стенах. Толпа с криками и бранью ринулась за ним и растерзала его прямо в алтаре собора. Начался грабеж дворов Глинских и их сторонников, при этом опьяненная безнаказанностью и кровью толпа убила множество ни в чем не повинных слуг.
Через день толпа отправилась к Ивану Васильевичу в село Воробьево, остановилась перед дворцом и стала требовать выдачи Анны Глинской и ее сына Михаила, якобы спасшихся в царских покоях. Царь стал убеждать народ, что Глинских он не прячет. Однако толпа настаивала, и послышались угрозы. Тогда Иван мгновенно перешел к решительным действиям. Несколько наиболее активных зачинщиков были схвачены и тут же казнены, после чего мятежная толпа затихла и возвратилась в Москву. Эти события явились концом прежнего могущества Глинских, а также показали всю остроту социальных противоречий в столице и необходимость серьезных перемен. Кроме того, следует отметить, что не только Москва оказалась захваченной народными выступлениями. Боярское правление привело к значительному ослаблению центральной власти, следствием чего стало усиление произвола вотчинников на местах. Все это тяжело отразилось на положении земледельцев и ремесленников, вызвав недовольство и открытые выступления в ряде русских городов, среди которых Псков и Устюг. И Иван Грозный приступил к реформам.
Прежде чем начать рассмотрение событий эпохи Ивана Грозного, следует отметить одну немаловажную особенность его правления. Весь период его пребывания на престоле многие историки условно разделяют на две части: от 1547 года и до (приблизительно) 1564 года и после этой даты и до смерти. Первый отрезок – это время наиболее крупных, интересных, значительных, четко продуманных реформ царя. В эти годы создается Избранная Рада, собираются Земский и Стоглавый соборы, присоединяются Казань и Астрахань, начинается Ливонская война, проводятся военные и административные реформы. Но после 1564 года в царе что-то надломилось. Возможно, это было связано со смертью его жены Анастасии и митрополита Макария, но именно после начала 60-х годов царь превращается в ту страшную фигуру, приобретает тот образ, по которому его себе все обычно и представляют.
