Смольный институт. Дневники воспитанниц
TextSie sich und lesen Sie das Buch kostenlos:
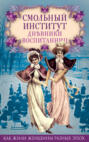


Zum Hörbuch
- Größe: 470 S.
- Kategorie: Biografien und Memoiren, Historische Literatur
В одно утро к нам влетели две бабочки, прелестные, в беленьких платьицах, в розовых газовых шарфиках. Они влетели в один особенно пасмурный день: класс смотрел угрюмо, шла арифметика; у черной доски стояли две несчастные, без передников – в наказание; они омывали слезами ряды неправильно изображенных триллионов. Под пером раздраженного учителя выводился нуль; классная дама бранилась. Бабочки присели на скамье. Они говорили на неведомом языке (английскому не учили у нас в то время). Взросшие в холе родного дома, бабочки ничего не знали. Бедненькие! Наука показалась им чудовищем, прикосновение грубых одежд помяло им крылышки. Вместо запаха цветов, в столовой (время было постное) встретила их атмосфера копченой селедки. Не прошло и полугода, как наши бабочки улетели обратно. Их взяли потому, что они буквально ничего не могли есть…
Впрочем, такие эфемериды бывали у нас редки. Вообще двенадцатилетним детям, избалованным, в кружевах и бархате и уже светским от пеленок, не место в казенных заведениях; они не выживут. Наш же институт шестнадцать лет тому назад был далеко не роскошен. Он был даже беден в сравнении с другими заведениями. Александринский (впоследствии Николаевский при Воспитательном доме) был перед нашим настоящий дворец, и отделкой помещения, в хозяйственною частью. Потом здание этого института было обращено в кадетский корпус. Мне удалось быть там. Великолепные коридоры, паркетные полы, бронза… Невольно навертывался вопрос: к чему?..
Признаюсь, мне теперь с удовольствием вспоминается тогдашний небогатый вид нашего института. Из всех зал только одна большая приемная была отделана под мрамор с великолепным плафоном, и только она и другая приемная, маленькая, имела паркетные полы. Во всем остальном, громадном здании, полы были или каменные, или крашеные. Зеленые скамейки в классах, подновляемые по временам, были, право, удобны. (При мне, однако, уже их заменили дубовыми, дорогими.) Как залы, так и классы освещались лампами незатейливого фасона; в дортуарах висели с потолка ночники, в виде лодочек. В дортуарах же стояли простые умывальные столы, медные, но удобные; дортуарные служанки приносили воду в жестяных ведрах. Конечно, это патриархально в сравнении с залами, где бронзовые бассейны в миг наполняются водою, но за то не стоило десятков тысяч. Также не было у нас подъемных столов, волшебством подающих блюда из кухни; блюда попросту подавались в кухонное окошко поваром на руки служанок, разносивших кушанье по рефектуару. Конечно, тут не было волшебства, но зато руки опять не стоили десятка тысяч, если не более. За исключением отвратительных каморок, где помещались некоторые наши служанки, в остальном мало что требовало радикальных перемен. Мне кажется, для казенного заведения прежней скромной обстановки было очень достаточно.
У нас могла бы быть другая роскошь, недорогая, но необходимая: библиотека, о которой не было у нас и намека, и хотя бы небольшая коллекция гравюр по стенам. В дортуаре могли бы быть допущены зеркала; мы причесывались перед осколками, привезенными из дома. Наконец – но, быть может, такая мысль преступна – если бы решились отступить хотя немножко от идеала казенной форменности, институт, быть может, оправдал бы для нас название «родного приюта». Не будь этого моря желтой штукатурки, – если бы были стены зеленые, голубые, хоть полосатые, какие угодно, нам было бы как-то теплее, уютнее, глазам нашим было бы веселее. Это, быть может, глупо, но дети – птицы; птицам недаром втыкают в клетку зеленые ветки или красный лоскут… Если бы допустили в дортуарах неслыханную роскошь: свой домашний образок над изголовьем или портрет матери; свои пяльцы где-нибудь в углу, цветочные горшки по окнам, хотя бы мы там вздумали сажать тыкву. Нет сомнения, такие крошечные уступки личным вкусам, проявлениям личной свободы, привязали бы нас к институтам несравненно больше чем роскошь мраморных лестниц. Полагаю, что роскошь в заведениях имеет отчасти целью привязать нас к ним; ведь там все делается для нас…
Но если чем был точно плох институт, так это пищей. Бабочки наши улетели недаром. Будь мы все бабочки, мы бы также разлетелись. Не то чтобы порции были малы, не то чтобы стол был слишком прост, – у нас готовили скверно. Часто и сама провизия никуда не годилась. Бывали, конечно, исключения, но редко. Я даже радовалась посту, потому что на столе не являлось мясо. Исключая невыразимых груздей, остальное в постные дни было кое-как съедомо. Можно было по крайней мере вдоволь начиниться опятками и клюквенным киселем, или киселем черничным. От последнего весь институт ходил сутки с черными ртами, но это не важность. Зато скоромный стол! Мясо синеватое, жесткое, скорее рваное, чем резаное, печенка под рубленым легким, такого вида на блюде, что и помыслить невозможно; какой-то крупеник, твердо сваленный, часто с горьким маслом; летом творог, редко не горький; каша с рубленым яйцом, холодная, без признаков масла, какую дают индейкам… Стол наш был чрезвычайно разнообразен. Мы не понимали, зачем это разнообразие. Школьничий желудок неприхотлив, предпочитает пищу несложную, простую, лишь было бы вдоволь и вкусно. Этого-то и не было. Часто мы вставали из-за стола, съевши только кусок хлеба; оловянные, тусклые и уже слишком некрасивые блюда – относились нетронутыми.
Впрочем, иные воспитанницы ели даже всласть и просили прибавки. Они, казалось, никогда не ели подобных прелестей. Мы удивлялись им, а потом, с горя, приступали к тому же… Иногда голод наталкивал нас на поступки не совсем дворянские. Мы крали. За нашим столом (первого отделения старшего класса), на конце, ставили пробную порцию кушанья, на случаи приезда членов. Девицы вольнодумно начали находить, что образчики лучше. И если член не приезжал, образчик съедался, подмененный на собственную порцию… Вообще мы были весьма кротки, не приносили жалоб, и даже любили своего эконома. Этот эконом был веселый старик и, что называется, балагур. Приходя в столовую, он садился с нами, называл всех столбовыми барышнями, помещицами и сам расхваливал свои блюда. Мы у него просили пирожков и картофеля. Пирожки являлись, но скверные (кроме слоеных по воскресеньям), и картофель. Картофель мы ели, остальным нагружали наши громадные, классным дамам неведомые карманы. Туда же присоединялся черный хлеб, намазанный маслом. Это масло мы сбивали на тарелках из распущенного, подбавив квасу. Черные тартинки тайком подсушивались в дортуарной печке (что иногда сопровождалось угарным чадом), и полдник или таинственный ужин выходил чудесный.
Полдника мы буквально алкали. С утренней булки и чая, т. е. с восьми часов, иногда не пообедав, или проглотив что-нибудь противное, что еще хуже, мы не знали, как дожить до пяти часов вечера. Тут, едва выходил учитель, мы стаей налетали на классную служанку. Она вносила булки. Эти булки (половина хлеба в 5 коп. серебром) съедались мгновенно. Горе той, которая имела неосторожность спросить всю свою булку в утренний завтрак! Она не находила сострадания. Известно, что такое эгоизм голодного: возьмите историю кораблекрушений и других тому подобных несчастий.
Таковы были печали (печали желудка, конечно, но все же уважительные), которые встретили нас при начале нашего поприща…
Маленький класс наполнился; им перешли заведовать те классные дамы, воспитанницы которых только что были выпущены. Учители проэкзаменовали по отделениям, сочли баллы, и сделали пересадку. Мы разместились. Кузину Вареньку посадили третьей: выше ее были две девицы, оставшиеся в маленьких от прежнего четвертого отделения. Варенька была в восторге. Она потащила на свою высокую скамейку свои книжки, беленькие тетрадки, образок чтобы поставить его в углу пюпитра и целовать перед уроком. Я пошла водворять ее. Но увидав пюпитр, мы обе вскрикнули. Класс сбежался. На закраине пюпитра была огромная дыра; в нее входил целый кулак…
Поверит ли кто-нибудь, чтоб эта дыра была проедена не мышами? Ее проела девица, ковыряя дерево концом булавки. Щепочки легко отделяются, их глотать удобно. Эта девица объела точно также стол в лазарете, – в лазарете, куда утром и вечером ездил доктор, где средним числом бывает не более шести-семи больных, в надзор над ними, казалось, был незатруднителен… Обглоданный край стола мы видели собственными глазами…
Еда дряни царствовала при мне во всей силе. Надо отдать справедливость нашим классным дамам: они преследовали ее жестоко. Но, вероятно, против такого зла мало было одних наказаний… Странно, что никто из нас до института не пробовал ничего подобного. Эта еда – изобретение чисто институтское. Всего страннее, что вкус к дряни не прививается от одного подражания: можно один раз проглотить клочок кожаного переплета, а на другой выплюнуть; нет, эта еда – неудержимая зараза, страсть, против которой бессильны даже угрозы розог… Печатная бумага, глина, мел (его тоже толкли и нюхали как табак), уголь, и в особенности грифель – все у нас поглощалось. От грифелей, длиною в четверть, к концу месяца после выдачи, часто не оставалось ничего. Лакомки брали у неевших, и отламывали углы своих грифельных досок. Ели просто для еды, потому что находили вкусными; очень немногие с целью приобресть интересную бледность. Кокетство пришло к нам позднее, едва ли не перед выпуском, а есть мы принялись с первого дня. Страшно вспомнить, какие были между нами зеленые лица. Страшно вспомнить, как умерла одна – ее задушил грифель… Да и вообще цветущее здоровье было у нас редкостью. Невнимание ли классных дам, дурные ли корсеты, только у нас вышло множество кривобоких. Иные, розовые и толстенькие девочки, принимались расти болезненно и вяло, у многих к выпуску от когда-то пышных волос едва оставались жиденькие пряди. Мы дурнели и худели. Причин и без дряни было много. Иных буквально сжимал и заедал страх, на других нападало отчаяние. Одна девушка, особенно мрачного характера, пила у нас уксус. Она тихонько докупала бутылки самого крепкого и пила стаканами. Ей хотелось умереть, потому что в институте было ей тошно, да и на свете, должно быть, везде было ей тошно…. Помню, ее пример увлекал. Она еще выдумала, что если есть много апельсинных и лимонных зерен, то скоро умрешь. Апельсинов родные привозили мало, но попробовать хотелось. Даже и веселые девочки пробовали…. Для юности в ранней смерти есть что-то заманчивое. Умереть в шестнадцать лет, – это так интересно! Институтская церковь полна; подруги, рыдая, поют панихиду; злая классная дама стоит и кается, а сама лежишь в гробу, в цветах, красавицей… Лежишь и глазком выглядываешь, что такое кругом…. А там уже опять как-нибудь жива, но дома, или где-то на земле….
Мы мечтали, а лакомая дрянь помогала не на шутку. И ели ее вовсе не дуры-девочки, ели и умные. Месяц спустя после приезда Варя, даже моя Варя, лизнула запретных конфеток. Она сделала мешок из бумаги, набила его толченым мелом и стала купать в нем носик как в листьях розы. Слава Богу, впрочем, она скоро одумалась. Через неделю ей показалось это глупо. За ней бросили еще две-три. Их поймала пепиньерка, да еще пригрозила нам одною неизбежною бедою…
Эта беда чуялась нам как-то грозно и неумолимо. Она должна была прийти к нам скоро, в образе нашей классной дамы, Анны Степановны. Анна Степановна была больна; она заболела еще до выпуска своего старшего отделения, после которого по очереди должна была достаться нам, четвертому отделению. Покуда ее заменяла у нас пепиньерка, дежуря поденно с другою нашею классною дамой, Вильгельминой Ивановной. Я была в дортуаре Вильгельмины Ивановны. Дортуар Анны Степановны ожидал своей начальницы. Дортуар – это половина отделения, и заведующая им классная дама имеет над ним непосредственную власть. Нравственность девиц, их занятия, их здоровье состоят на особой ответственности дамы дортуара. Можно сказать, что от этой ближайшей начальницы зависит вся судьба девочки.
Нам много шептали об Анне Степановне. Нельзя вообразить, какой сердечный трепет навели эти рассказы на тех особенно, кто должен был поступить в ее дортуар. Варенька попала туда. Она очень приуныла. Вообще, выражение ее лица неузнаваемо изменилось в короткое время… Наконец, в одно утро, нам объявили, что Анна Степановна вступает в должность. Она заняла свою комнату подле дортуара, до тех пор пустую, и запертая дверь ее внушала нам таинственный ужас…
После вечерней молитвы эта дверь отворилась. Там видна была синенькая мебель, стол да этажерки, ничего особенного, но у многих девиц побелели губы. Мы ждали, стоя в рядах. Из комнаты приносился острый запах какого-то лекарства. Что-то шевельнулось… и наконец тихо на пороге показалась фигура в темном капоте. Лицо ее мы не могли, не смели рассмотреть. Фигура подошла. В руках ее был список ее дортуара. Она вызывала поименно своих, взглядывала им в глаза, потом наклонением головы возвращала каждую девицу на ее место. Губы ее были сжаты, щеки желчного цвета, блестящие карие глаза смотрели исподлобья, хотя были посажены так, что могли смотреть прямо. Кончив, она отошла на два шага, с неудавшимся величием, и произнесла: «je verrai voire condhaite» (Я буду следить за вашим поведением (фр.).
Общий книксен, и двери затворились.
Впечатление было произведено…
Не могу иначе назвать это время, как «похоронным». Выражение неверно, но оно явилось тогда в уме, и удержалось в нем на веки. Точно мы кого-то похоронили, или нас похоронили… В глубине прошедшего мелькают мрачные дни и наши убитые страхом лица. Страх напал на богатых и бедных, на робких и строптивых, он уравнял всех, и в общем бедствии мы стали подавать друг другу руку. Вот начало нашей дружбы: она расцвела среди гонений…
Детство все преувеличивает, но тут желание гнать нас было очевидно. Мы видели, что Анна Степановна торжествовала, когда весь класс сидел, не смея возвесть очи; она, конечно, должна была понимать, что делалось в это время с нашими сердцами и внутренностями…

Канцелярия. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.
Она, конечно, нас не била, и не бог весть как бранила. Но ее физиономия и тон имели способность уничтожающую. Довольно было этой физиономии, чтоб убить в зародыше самое малое покушение на шалость. Мы и не шалили. Не помню, чтобы в продолжение этих первых месяцев в институте кто-нибудь у нас точно провинился. Тем не менее Анна Степановна так и сыпала наказаниями.
Мы думали, нет злее женщины в мире. Позднее мы поняли ее иначе, но еще хуже. Приговоры наши были страшны…
Анна Степановна доводила нас в особенности «тишиной». Чуть шорох или смех в классе, и виновная уже у черной доски; слово в оправдание, и она без передника; шепот неудовольствия – и весь класс «debout» (стоя (фр.) или без обеда. Начинается грозный разбор; Анна Степановна не возвышает голоса; она больше глядит и ждет… о, лучше бы, кажется, умереть!..
Чтобы соблюсти ту тишину, которой хотелось Анне Степановне, надо было родиться истуканом. Особенно было тяжко, когда мы ложились спать: тут-то бы и хотелось поговорить друг с другом, на просторе. Рекреаций мы не любили; во время рекреаций надо непременно ходить, и все спешат выучить урок к послеобеденным или завтрашним «переменам»; да тут же и она, сама Анна Степановна; не побранишь ее, не облегчишь сердца. Но в дортуаре ужасно… Рядом она отворила свою дверь и ждет, чтобы в секунду водворилось гробовое безмолвие. Раз мы засмеялись, раздевая друг друга… Тогда, как стоял ряд, так его и повалили на колени, как карточных солдатиков. На коленях простояли до полуночи…
Страх наш начал принимать колорит фантастический. Кто, например, видел тень Анны Степановны, блуждавшую по дортуару среди ночного мрака; кто утверждал, что Анну Степановну посещают видения, три черные кошки. Варенька не верила, но трусила не хуже других; она просто терялась. Раз она уже совсем легла в постель, когда Анна Степановна кликнула ее взять шпильки и булавки, чтобы раздать девицам. Варенька влетела к ней как была, даже без башмаков. Это не помешало, однако, Вареньке сделать книксен…
Другие отделения нам не завидовали, конечно. У них житье было гораздо лучше, и если подчас не доставало справедливости в толку, за то не было такого удушья. Их классные дамы ставили нас в пример своим, но не пускались в рабское подражание. Быть может, сердца их были даже тронуты зрелищем наших бедствий, но ни одна не решилась на дружеский совет Анне Степановне. Дружбы между нашими классными дамами не было; случалась скорее вражда. В свободные от дежурства дни они не собирались между собою потолковать о живом мире, который не совсем был заперт от их глаз. Дежуря через день, каждая дама половину года была почти свободна. У иных было даже большое знакомство, а молодые не лишались удовольствия поплясать где-нибудь на бале… Но ни внешний мир, ни институтские интересы, ничто не сближало наших дам; большая часть их предпочитала жить особняком, избегая интимности, держалась как-то странно настороже и будто сберегая друг против друга камень за пазухой…
Зачем? Ни зависть, ни самолюбие, ни честолюбие, ничто не могло служить тому побудительною причиной. Классной даме нечем было отличиться; классной даме не было повышений, ни каких-нибудь особенных льгот; наконец, сколько я помню, ни одна из них не заискивала и любви директрисы. Любовь эта могла быть только бесплодною, значит, не о чем было хлопотать; к тому же они хорошо знали директрису, равнодушную к ним до некоторого презрения…
Не думаю также, чтобы наши классные дамы скрытничали друг от друга из необходимости скрытничать. Поведение их было безукоризненно, и если кто из нас увлекался впоследствии, тот не мог сослаться на пример своих классных дам. Бывали, пожалуй, у них уклонения, но или пустые, или глупые… Чего-нибудь более серьезного институтские стены не видали в мое время… И наконец, наши классные дамы были большею частию или стары, или дурны.
Однако они все же не ладили. Нам, конечно, до этого не было никакого дела, лишь бы с нами обходились милостиво. Но так как все они, в большей или меньшей мере, держались системы безгласия, делали из мухи слова или пребывали в олимпийской недоступности, то немногие и были любимы, и то немногими…
Наша неприязнь, должно быть, мало их огорчала. Наши классные дамы были только институтские дамы, а не воспитательницы. Ни одна, сколько я помню их теперь, не поступила к нам по призванию. С небольшими исключениями все даже были очень плохо образованны; были даже крайне тупоумные дамы. Такие ломили, как говорится, зря, наказывали нынче за то, что спускали вчера, сбивали с толку, и получали название индюшек за выражение, которое принимали их лица в минуту гнева. Детство чутко; их мало боялись, и под надзором этих дам выросли более независимые характеры. В пятом отделении была классная дама кислейшей наружности и кислейшего характера. Пятнадцать лет она подвизалась на своем поприще. Быть может, когда-нибудь она была образованна, но с тех пор как выучилась, не сочла нужным идти вперед ни для себя, ни для своих учениц, которым помощь классных дам при повторении или приготовлении уроков была бы необходима. Может быть, прежде она усердно исполняла свою обязанность; умная и справедливая, может быть, сформировала несколько твердых и честных характеров, и наказания ее точно приносили пользу. И теперь еще можно было видеть, что она бывала когда-то справедлива. Но дама соскучилась. За стенами института у нее не было знакомой души. Она обленилась и устала. Она, видимо, только дотягивала до полного пансиона, чтоб уйти, может быть, в монастырь, и доживать на покое. Лицо ее наводило скуку. Она не придиралась к пустякам, но дежурила как-то нетерпеливо, чтобы поскорее отделаться от дневной работы. Ее уважали, но и только.
Ее сослуживицу по отделению тоже уважали. Она была еще молода и воспитанна, но какая-то сухость сердца или нежелание немножко сблизиться с нами, ставили между нею и ученицами постоянную преграду. Ее наставления не трогали. «Дортуар» был для нее что-то постороннее, содержимое в порядке и вежливо, уважаемое в массе, но не более. И то уже было хорошо.
В третьем отделении, у старших, дежурили две противоположности: шестидесятилетняя старуха и двадцатипятилетняя молодая девушка. Старуха давно получила полный пансион и неизвестно зачем заживала в институте чужое место. Она только брюзжала. Вставать в семь часов и быть на вытяжке до восьми вечера было ей не по силам. Когда она вела парами своих, быстрые шаги девиц подкашивали ее выплывавшую впереди фигуру. Над нею глупо школьничали, наливали воды в ридикюль и чуть не прикалывали бумажек. Старуха часто хворала. Другая, молодая, была очень хорошенькая девушка, очень бедная, и только начинала свою карьеру. Ей гораздо больше хотелось выйти замуж. Эти невинные и очень понятные хлопоты продолжались все шесть лет, покуда я была в институте. Мне грустно о ней вспомнить… Она правила дортуаром скрепя сердце, и была аккуратна, чтобы не потерять места. Собственные интересы заметно ее мучили. На дортуар свой она глядела немного желчно, – она видела в нем существа, которые скоро будут на свободе, и иногда немножко свысока, чтоб отвести душу хоть в проявлении власти…
Наша Вильгельмина Ивановна была добрая женщина, но немного ограниченная. Она часто ни с того ни с сего принималась злобствовать вроде Анны Степановны, что вовсе не шло к ее смиренной физиономии. Но это сходило с нее скоро. Она, кажется, сама недоумевала, зачем надо быть строгою, и не умела отвязаться от этой будто бы неизбежности. У нее и выражение, и манеры были какие-то свои домашние, а не казенные. Иногда она была вовсе мила, вовсе запросто, и какое-то материнское чувство проглядывало в ее глазах. Заболевшая девица была для Вильгельмины Ивановны не субъект, который надо отправить в лазарет, и только; Вильгельмина Ивановна страдала за нее и тормошилась, как бы скорее помочь. В дортуаре своем она имела фавориток. Мы прощали ей это пристрастие, потому что в нем было безотчетное искреннее чувство, без всякой тени какой-нибудь корыстной причины. Фавориток своих она даже баловала. Она зазывала их к себе в комнату, и там, за перегородкой, у постели, где потеплее и потеснее, стоял самовар и разные сласти. Она любила покормить как барыня-помещица. Тут девушки болтали всякий вздор; из памяти исчезали желтые стены, разница лет и положения. Они даже целовали Вильгельмину Ивановну. На ее глазах бывали слезы…
Но Вильгельмина Ивановна была единственная. К сожалению, впечатление ее ласки скоро проходило, – и не далее, как на другой же день, когда Вильгельмина Ивановна, вся пунцовая, принималась кричать на весь класс и решительно без цели…
А наша Анна Степановна? А другие, и еще другие?..
Да что же было с них и взыскивать? Разве добрая воля привела их под институтскую кровлю? Всех привела нужда. Конечно, очень многие свыклись потом с своею профессией, даже привязались к ней, но все равно исполняли ее дурно. Трудно было и выполнять ее иначе. Двадцать лет назад не очень многие понимали, что такое должно быть воспитание… В казенных заведениях отсталые понятия передавались из рода в род; вновь поступавшие классные дамы принимали эти понятия совсем готовыми и усваивали их легко, потому что они были удобны. Чинность, безгласие, наружная добропорядочность и повиновение во что бы то ни стало – вот качества, которых можно добиться от подчиненных только вооруженною силой. Быть вооруженным очень приятно, и к тому же, добиваясь таких результатов, власть остается спокойна и умом, и сердцем.
Не думаю, чтоб учредители института имели цель образовать в нас только эти качества. Отчасти, может быть, но не в такой уродливой мере. Классные дамы злоупотребляли, директриса не доглядывала. Никто не чувствовал потребности изменений в этой мертвой среде, никто не искал лучшего.
Одна любовь творит чудеса, живит то, что ее окружает; она одна, лучше всякого мудреца, умеет найти, что нужно: то простое слово, тот склад отношений, которые воспитывают молодую душу в добре и свободе. Но требовать любви от классных дам было бы нелепо. Где эти обширные сердца с запасом любви на шестьдесят человек или, по меньшей мере, на тридцать (то есть на воспитанниц всего дортуара)? За неимением таких в природе институтское начальство, конечно, их не ищет.
Если это было невозможно, то было возможно другое: женщина, человечески образованная, понимающая, что придирчивость только роняет кредит власти, а преследование мелочей глупо, – понимающая, одним словом, что власть страшно обязывает, а не дается для самоупоения, – женщина пытливая, для которой любопытно видеть рост детского ума и приятно направлять его во имя здравого смысла.
Но где же двадцать лет тому назад были у нас такие женщины-воспитательницы по праву и по призванию? Много ли их и теперь?..
Черты женщин любящих и женщин умных попадались и между нашими классными дамами, но только черты микроскопические. У них недоставало главного: чувства долга, который сказал бы им, что пора оставить заведение, когда ослабели нравственные и физические силы, или когда каждый собственный шаг ясно говорит им, что они не способны занимать свое место.
Но до такого самопознания, до такого самоотвержения общество не доросло и теперь. Классные дамы наши были не виноваты.
Теперь, пожив на свете, мы, воспитанницы, прощаем им многое, почти все, объясняя их нравы духом времени. Но тогда мы решительно не прощали… Злоба наша изливалась втихомолку, но тем не менее, очень красноречиво. Имена и фамилии классных дам перевертывались на все лады. Эпитеты сыпались, и vilaine было самое милостивое.
Узнала ли об этом впоследствии хоть одна классная дама, так, из откровенного разговора с бывшею воспитанницей? Не думаю. Мы выросли такою трусливою мелкотой, а там попали в общество, так мало радеющее о правде, что, конечно, ни одна из нас не отваживалась на слово правды, как бы оно ни было полезно, и даже в том случае, когда сказать это слово можно было с полною безопасностью.
Вспоминается мне наше первое говение вместе. Никогда, в последние годы курса, ни потом, дома, я не была под влиянием такого особенного чувства. Почти весь класс испытывал то же. Серьезный ли характер нашего законоучителя, непривычка ли ответственности за себя (потому что дома казалось еще, что за нас перед Богом отвечали родные), или мрак и грусть, напущенные Анной Степановной, были тому причиной, – не знаю; но только мы каялись, будто совершили десятки преступлений. Мы даже старались не говорить друг с другом, чтоб не нагрешить еще больше. Нам казалось, наконец, что мы виноваты перед целым миром. Мысленно мы просили прощения у родных; между собой сводили итоги, от похищенной булавки до обидного слова. Но одно затруднение для нашей совести было непреодолимо. Мы не знали, как нам быть с Анной Степановной. Совесть требовала найти в себе преступление и против Анны Степановны, а между тем искать его как-то не хотелось, и стыд нас брал, что оно не находилось, стыд за закоснелость души, потому что все же мы, верно, были виноваты перед Анной Степановной… Надо призваться ей, но в чем, – и неужели признаться?.. В таких мучениях приходил и день исповеди, и час исповеди.
Раздавался церковный колокол. Все мы инстинктивно, в раз, поднимались с места. Не помню, чтобы кто-нибудь пожелал отстать и явиться одною с своим «pardonnez-moi» перед Анной Степановной. Тесною толпой подходили мы к ее двери, имея самых недовольных и притесненных внутри кружка, где не так видно. Объявить о нашем приходе избиралась девица, что ни есть невиннее и безответнее из всего дортуара.
Анна Степановна выходила. «Pardonnez-nous», раздавалось глухо в кружке. «Que Dieu vous pardonne, mesdemoiselles». И если ничего больше, какое счастие! Но в этом счастии мы не смели признаться и самим себе. Мы только робко обращали тыл и не озираясь, чтобы как-нибудь не кликнули.
Коллективное раскаяние и прощение снимали тяжесть с души. Значит, так должно было быть, если так было.
Позднее, к пятнадцати годам, молитва наша стала мечтательнее, или восторженнее; раскаяние и прощение «врагу» не просилось наружу из сердца, а как-то застенчиво оставалось в глубине его; взамен слов явились слезы, но нервные, горячие, неопределенные. Мы пролили их много перед образом Спасителя, в церкви, покуда, бывало, стоишь и ждешь своей очереди; а там, у противоположного окна, за ширмами, где священник, идет тихая исповедь.
К шестнадцати годам, многое изменилось. «Pardon» у дверей стал почти простым обрядом, и мурашки уже не бегали по плечам от страха погони. Наконец, молитва приняла совсем институтскую складку. Перед исповедью мы стали записывать грехи на бумажке и твердить, как уроки. «Mesdames, дайте списать грешков, я свои забыла», слышалось со всех сторон, в то время как благовестил колокол.
Это было искренно и, быть может, даже очень трогательно; но, мне кажется, в детстве было лучше. В детстве, кроме времени говения, бывали иногда просто случаи, которые вызывали такую потребность раскаяния, на какую уже неспособен немного взрослый человек. Вот один случай: свое покаяние рассказывала нам потом наша первая ученица, оставшаяся от предыдущего класса.
Раз, в институте, произошло следующее. Был большой праздник, Рождество Христово, и, по правилу заведения, институтки проводили его в дортуарах. Три дня в дортуаре и полнейшая свобода – какое счастие может с этим сравниться? Было шумно, лакомств было вволю; к довершению прелести вечера и рассказы нашлись самые святочные. Только неделю перед тем умерла в институте одна старая дама, бывшая распорядительница в классе вышиванья. Она давно не служила, и жила у дочери, своей преемницы по классу. Покойницу отпевали в институтской церкви, и, говорят, мертвая была очень страшна. Так эту-то покойницу видели накануне Рождества. Она прошла по хорам церкви, оттуда по хорам приемной залы и там во что-то обернулась. Кто видел, еще не знали, но происшествие комментировалось под звуки приятного щелканья кедровых орешков во всех углах дортуара. Беседа лилась, когда совсем неожиданно ее прервали.
– Par paires, ко всенощной, – скомандовала, входя, классная дама.
А сказали, что будет заутреня, в шесть часов утра. Неохотно все встали и пошли молиться.
Молились что-то долго, будто гораздо дольше обыкновенного. Дьячок уныло тянул на клиросе, свечи что-то плохо горели; в лазарете били часы протяжно, долго… а всенощная была только в половине.
Вдруг раздался крик, страшный, неестественный, и кто-то в дальних рядах грянулся об пол. Секунда тишины, и закричали все. Все заволновалось, заметалось, ряды бросились на ряды, толкаясь, сшибая с ног, падая грудами, задыхаясь в ужасе… Бледные лица, растерянные башмаки, крики: «пожар, покойница, светопреставление!» Кто-то влетел на клирос, хочет в алтарь, дьячок хватает ее за косички; кто-то со стоном бьется под десятками тел; швейцары держат дверь у входа в залу, там приезжие. Побежали за директрисой, из лазарета тащат воду. Вышел священник с крестом: «Мир вам, мир вам». Понемногу все утихают, становятся в ряды, и тихо, еще дрожа, идут прикладываться к Евангелию.
