Чисто по-русски. Говорим и пишем без ошибок
Text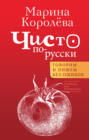


Zum Hörbuch
- Größe: 560 S. 1 Illustration
- Kategorie: Nachschlagewerke, beliebt, Russisch für Muttersprachler
Двухтысячные годы
Вопреки апокалиптическим предсказаниям конца прошлого века, XXI век не только наступил, но и продолжается день за днем, год за годом. Более того, годы начинают потихоньку складываться в десятилетия. А мы все еще делаем ошибки в названиях годов! Это обидно еще и потому, что в датах XXI века нет никаких сложностей.
Для начала представим себе число с двумя нулями и единицей, 2001. Две тысячи первый год, первый год третьего тысячелетия. Две тысячи первый. Это так называемое порядковое числительное. Но оно не круглое, в отличие от года двухтысячного, оно уже разбавлено единичкой. И здесь – внимание! – неужели вы скажете: «Он женился в двухтысячепервом году»? Конечно же, нет. Это и выговорить, и написать страшно. Про того, кто совершил этот решительный поступок, мы скажем: «Он женился в две тысячи первом году».
Вот с этого и начнем отсчет. В две тысячи первом, в две тысячи втором, в две тысячи третьем, четвертом, пятом, десятом, двенадцатом… Обратите внимание, по падежам изменяется только самая последняя цифра, «две тысячи» остаются неизменными в любых позициях! Кто помнит, тот сравнит это с годами ушедшего уже XX века: «Родился в тысяча девятьсот шестьдесят пятом». Так и здесь – в две тысячи первом, втором, третьем и т. д.
К примеру, «фильм был снят в две тысячи тринадцатом году, а в две тысячи четырнадцатом обошел все экраны мира».
Ничего сложного. Просто запомните: «две тысячи» в датах – это всегда «две тысячи».
Де́вичий
Бабушка заполняет анкету в учреждении. Видит она плохо, слышит тоже, поэтому ей со всех сторон помогают. Фамилия, имя, отчество – всё написали. Год рождения тоже вспомнили, указали. На следующей строчке вышла заминка.
– Здесь, бабушка, де́вичью фамилию нужно написать, – подсказывает молодой человек.
– А?! – переспрашивает та. – Какую еще фамилию? Я писала уже!
– Да нет, бабушка, надо де́вичью, которая в молодости у вас была.
– А-а, – кивает та, – деви́чью…
Обычно вопросы действительно возникают, когда нужно произнести словосочетание «де́вичья фамилия». Однако достаточно обратиться к современным словарям, чтобы убедиться: вопросы излишни, правильно будет «де́вичья фамилия». Словарь ударений И. Резниченко этот вариант приводит как единственно верный. «Де́вичья фамилия», «де́вичий стыд», «де́вичья краса», «де́вичий взгляд» – вот некоторые сочетания, в которых мы можем встретить сейчас слово «де́вичий».
Но это же слово в названии оперетты, например, произносится по-другому: «Деви́чий переполох». Почему? Скорее, по традиции. Кроме того, в поэтической речи вы можете порой встретить ударение на «и» – «деви́чий» (у А. Блока, например, – «твой манящий деви́чий наряд»). В поэзии, впрочем, еще и не такое бывает, там во главу угла ставятся ритм, метр и прочее, а ударение часто смещается.
Это не единственное объяснение ударения на «и» в слове «девичий». Всё дело в том, что такая форма слова – устаревающая. Когда-то оно произносилось именно так, а в поэзии старые нормы сохраняются куда как дольше. Так что, если вы вдруг решите произнести «деви́чий», – знайте, вы следуете старой норме.
Сейчас мы говорим «де́вичий», и это считается современной нормой.
Деепричастные обороты
Когда филологи говорят об этой проблеме, пример приводят обычно один и тот же, из А. Чехова: «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа» (миниатюра «Жалобная книга»).
Вот эта ошибка, «подъезжая… у меня слетела», стала повсеместной. И не намеренной, как у Чехова, который использовал ее как литературный прием, стилистическую ошибку (так называемый анаколуф). Нет, мы чаще всего даже не замечаем, как ее совершаем. Так что же мы делаем не так? Разобраться попробуем на том же примере, со станцией и шляпой.
Понятно, что речь идет о деепричастных оборотах (подъезжая к станции, глядя на природу в окно) и каких-то недопустимых условиях их употребления. И правда, деепричастный оборот – это всегда дополнительное действие. Есть основное («слетела шляпа»), а есть дополнительное (при каких обстоятельствах? – «когда я подъезжал к станции и глядел на природу в окно»). Так вот, и основное действие, и дополнительное должен совершать ОДИН субъект, один и тот же. Они должны совпадать, субъекты действия. Абсурдность чеховского предложения про станцию и шляпу как раз в том, что некто подъезжает к станции – а слетает вовсе не он, слетает шляпа!
Итак, договорились: в обеих частях предложения с деепричастным оборотом должен быть один субъект действия. Теперь можем смело исправлять чеховскую фразу. Как? Например, так: «Подъезжая к станции, я заметил, что у меня слетела шляпа». Мы оставили деепричастный оборот, но выполнили требование об одном производителе действия. Или так: «Когда я подъезжал к станции, у меня слетела шляпа». Здесь мы просто убрали деепричастный оборот.
Как видите, всё просто. Если бы не коварные безличные конструкции! «Подходя к лесу, мне стало холодно». «Читая газету, мне стало скучно». Снова повеяло чеховской «шляпой», не так ли? А дело в том, что в соседстве с безличными конструкциями использовать деепричастный оборот нельзя: субъект действия один, но грамматически в основной части он не выражен. Придется исправляться: «Подходя к лесу, я почувствовал, что мне стало холодно». Или так: «Когда я подходил к лесу, мне стало холодно».
Вот теперь всё в порядке. Не слетай, шляпа, ты нам еще пригодишься.
Дезавуировать
Чаще всего мы встречаем это слово в новостях – нам могут сообщить, например, что МИД дезавуировал свое заявление.
Это слово используют довольно приблизительно, в таких значениях, как «опроверг» и «отказался от своих прежних слов». Однако это всего лишь наблюдение, есть куда более объективный источник – Толковый словарь иноязычных слов Л. Крысина.
Там, правда, нет самого глагола «дезавуировать», но есть существительное, которое от него образовано. Существительное, которое даже выговорить трудно: «дезавуирование». Между тем это термин. Это заявление о своем несогласии с действиями своего же доверенного лица или заявление о том, что данное лицо вообще не уполномочено действовать от имени заявляющего.
И это еще не всё. Есть термин международного права: «дезавуирование» – заявление правительства о том, что дипломатический представитель или иное лицо государства действовало без соответствующего поручения.
Слово по своему происхождению французское: desavouer. Как ни странно, французский глагол ближе к слову «дезавуировать», которое отчаянно пытается внедриться в русский язык. Значения такие: «отрекаться, отказываться, не признавать, выражать несогласие». То есть «МИД дезавуировал свое заявление» как раз и означает, что МИД от своего заявления отказался.
Другое дело, зачем нужно произносить «дезавуировать» вместо «отказываться» или «не признавать»? А вот на этот вопрос ответа у меня нет.
Демонтаж
Во дворе идет шумное собрание. Дело в том, что на стене дома появилась трещина. Ее заметил один из жильцов, когда возвращался вчера с работы, а за ночь она стала еще больше! С утра приезжают комиссии, а сейчас перед жителями выступает глава района. Он пытается, перекрывая шум, объяснить, что произошло:
– Мы думаем, – кричит он, – что это из-за демонта́жа соседнего дома… ну, из-за демонтажа́ вот этой пятиэтажки. Не знаю, как сказать: демонта́жа, демонтажа́…
Действительно, как? В одном тексте я увидела, например, такую фразу: «Демонтажем руководит лично мэр города». Не «демонтажом», а именно «демонтажем». Попробуем разобраться.
«Демонтаж» – французское слово, и в Толковом словаре иноязычных слов Л. Крысина оно определяется как технический термин: разборка на части машины, механизма, сооружения; снятие их с места установки. «Демонтаж» – антоним «монтажа» (это как раз сборка и установка машин, механизмов, сооружений). Обратите внимание, нам не приходит в голову сказать или написать «монтажем»!
Разные орфоэпические и орфографические словари не предлагают нам никаких вариантов ударения в падежных формах слова «монтаж». Монта́ж, монтажа́, монтажу́, монтажо́м, о монтаже́. Казалось бы, перенесите ту же логику на слово «демонтаж» – и дело с концом! Не тут-то было. Словарь ударений Ф. Агеенко и М. Зарвы вообще предлагает нам единственный вариант: «демонта́ж», «демонта́жем».
Воля ваша, но мне такое ударение кажется несколько архаичным. И в этом меня поддерживает Краткий словарь трудностей русского языка Н. Еськовой: он предлагает нам вариант «демонтажа́, демонтажу́, демонтажо́м» в качестве основного. А по поводу «демонта́жа, демонта́жем» сообщает, что такое ударение – устаревающее.
Видимо, всё больше начинает действовать аналогия с «монтажом». Монтажа́ – демонтажа́, монтажо́м – демонтажо́м. Но если вы где-то услышите о демонта́же, не спешите осуждать говорящего: ведь до недавних пор это было словарной нормой.
Деньги
«Не в де́ньгах счастье». Мы довольно часто слышим эту поговорку и помним, что произносится она именно так. Поэтому, когда нам требуется сказать, что потеряли кошелек с деньга́ми, мы сомневаемся: так с «деньга́ми» кошелек или с «де́ньгами»? Ведь не в «де́ньгах» же счастье?..
Если прислушаться, как говорят в магазинах, где деньги постоянно переходят из рук в руки, как говорят в транспорте, на остановках, на улицах, то можно сделать вывод, что правильно будет «деньга́м, деньга́ми, о деньга́х». Просто потому, что все поголовно говорят именно так. «Он бросается деньга́ми направо и налево, он совершенно не думает о деньга́х!»
Но тут снова возникает вопрос: а как же поговорка «не в де́ньгах счастье»?
А ведь согласитесь – это красиво: де́ньгам, де́ньгами, о де́ньгах. Есть в этом произношении нечто возвышенное, необыденное. Кстати, если мы придем в Малый театр, особенно на пьесы Островского, Чехова, то услышим, что актеры именно так и говорят. Осталось только подкрепить нашу догадку словарем, что мы сейчас и сделаем.
И Орфоэпический словарь под редакцией Р. Аванесова, и Словарь ударений Ф. Агеенко и М. Зарвы подтверждают: «де́ньгам» – это вариант устаревший, несовременный. Так говорили в XIX – начале XX века, до сих пор так говорят многие актеры, особенно старой школы: их преподаватели передали им эту традицию.
Что же до нас, грешных, нам позволительно говорить «о деньга́х», сорить «деньга́ми», не придавать никакого значения «деньга́м». Именно такой вариант ударений считается современным.
При этом тот, кто сорит «де́ньгами», не совершает никакой грубой ошибки. Такое ударение было? Было. Значит, и пользоваться им не возбраняется.
Дешево и сердито
– Купил билеты на самолет?
– Нет, решил поездом ехать. Дешево и сердито!
Допустим, поездом действительно дешевле, чем самолетом, хотя и не всегда. Но почему «сердито»?! И кто может сердиться на дешевизну – если, конечно, речь идет о слове «сердито» в том самом известном нам смысле?
«Сердито» (наречие от прилагательного «сердитый») означает «зло, сурово, раздраженно, злобно, яростно, грозно, хмуро, разгневанно». Синонимов много, и все они о неприятном. Между тем, когда мы говорим о чем-то «дешево и сердито», то имеем в виду нечто дешевое, но вполне отвечающее своему назначению. Дешево и сердито – это, с нашей точки зрения, хорошо! В чем же тут дело?
Как это часто бывает с устойчивыми выражениями, которые мы получаем от предков и которыми пользуемся не задумываясь, старое значение одной из частей фразеологизма, «сердито», было забыто. Слово «сердитый» среди прочих имело также значение… «дорогой, хороший»! Прилагательное «сердитый» изначально образовано от сьрдь – «сердце» (вспомните «сердечный друг»). И значение это, напоминает языковед Н. Шанский, особенно ярко проявлялось в обороте «сердитая цена». Вот, например, у Н. Лескова: «У графини теперь… страстное желание иметь пару сереньких лошадок с колясочкой, хотя не очень сердитой цены». Так что выражение «дешево и сердито» появилось в качестве каламбура – буквально «и дешево, и дорого (хорошо), но дорого не по цене, а по качеству». Как считают специалисты по фразеологии, тут скрыт своеобразный полемический выпад против пословицы – тоже забытой нами – «Дорого да мило, дешево да гнило».
Что до сердца… О, это «сердце», от которого образовалось когда-то «сердитый»! Оно сохранилось во многих устойчивых выражениях. От всего сердца (совершенно искренне), всем сердцем (очень сильно, горячо, всем существом), скрепя сердце (против воли, против своих убеждений). А как минимум в двух фразеологизмах, которыми мы пользуемся сейчас не слишком часто, «сердце» имеет старое значение – «гнев, злоба». Иметь сердце на кого-то означает как раз «сердиться, быть недовольным кем-то». Можно и «сорвать сердце на ком-нибудь» (то есть излить злобу).
Вот уж действительно – «сердце, тебе не хочется покоя»!
Дивиденды
Как бы ни кричали противники иностранных слов, как бы ни требовали все эти слова немедленно, прямо сейчас заменить на русские, сколько бы примеров ни приводили, даже они знают, что взаимопроникновение языков не остановить. Какую область ни возьми – латинские, греческие, английские, немецкие, итальянские слова…
Да вот хоть экономику взять.
Дивиденд. Последняя буква, между прочим, «д». Я не случайно это подчеркиваю – есть проблема. Раз уж попало словечко в русский язык, приходится его законам подчиняться, то есть звонкий согласный на конце слова становится глухим.
Да, но сначала надо все-таки пояснить, что это за дивиденд такой. Всё просто: от латинского dividendus – подлежащий разделу. Это доход, который получает владелец акции. То есть, по сути, дивиденд – это часть прибыли акционерного общества.
А если у кого-то не одна акция? А то еще может быть, что и акция не одна, и предприятие не одно, такой вот крупный акционер. Соответственно, и дивиденды он получает крупные.
И вот тут еще раз внимание! Он получает дивиденды. Как мы уже выяснили, на конце в слове «дивиденд» пишется «д», а стало быть, у нас никаких других вариантов нет, кроме как «дивиденды» получать. Глухому «т» взяться там неоткуда. Никаких «дивидентов»!
А дивиденды – они, конечно, чем больше, тем лучше.
Директор, профессор
Хорошо, если у вас один директор. А если их несколько? А если это совет директоро́в? В этом, конечно, нет ничего угрожающего, стоит ли бояться директоро́в? И директора́м приходится подчиняться, с директора́ми лучше все-таки не шутить, о директора́х стоит всегда помнить. Итак, директора́, директоро́в, директора́м. Современные нормативные словари никаких проблем с ударением в этом слове не замечают. Только так, и никак иначе.
А между тем вы можете заметить, как в повседневной речи ваши собеседники всё чаще сбиваются на «дире́кторов». «Дире́кторы, дире́кторов» – старая, дореволюционная норма. На протяжении прошлого века «дире́кторы» стали потихоньку превращаться в «директоро́в». И вдруг, по каким-то неясным причинам, форма «дире́кторы» стала возрождаться. Если этот процесс продолжится, то вариант «дире́кторы» скоро придется вносить в словари. Однако сейчас единственно возможный вариант – «директора́», только так.
Интересно, что такая же ситуация сложилась со словом «профессор».
Если в XIX веке студент называл своих преподавателей «профе́ссорами», то нынешние словари использовать такую форму категорически не рекомендуют, она считается безнадежно устаревшей. И опять-таки можно предположить, что ударение в этом слове начало сдвигаться в 20–30-е годы прошлого столетия. Результат: теперь мы говорим только с профессора́ми, обращаемся к профессора́м, рассуждаем о профессора́х, читаем труды профессоро́в.
Диспансе́р
Пока человек здоров, он и думать не думает о том, какие бывают на свете медицинские учреждения! Зато уж если заболел, сразу оказывается перед выбором. Это ведь только кажется, что врач – он и есть врач, отправляйся к любому. Но ведь существуют поликлиники, больницы, клиники, медицинские центры, частные кабинеты… Или, например, подошел ко мне человек и спросил: «Не знаете, где тут диспа́нсер?» – «Что-что?» – спрашиваю. А он повторяет: «Диспа́нсер».
Я знала, где находится районный диспансе́р, он – в двух шагах от метро. А заодно вспомнила об этом слове, «диспансе́р», которое при мне десятки раз произносили так, как произнес его человек на улице. Повторять неправильный вариант еще раз я не стану, а повторю-ка лучше так, как предлагают словари: диспансе́р.
Уточню: рядом с неправильным вариантом в Орфоэпическом словаре под редакцией Р. Аванесова и Словаре ударений Ф. Агеенко и М. Зарвы стоит соответствующая помета «неправильно!». С восклицательным знаком, заметьте.
Слово «диспансе́р» – французское. Там оно звучит в точности так, dispensaire, и означает то же, что в русском (то есть медицинское учреждение, которое занимается лечением определенного контингента больных и систематически наблюдает за их здоровьем). Источник – французский же глагол dispenser (распределять, раздавать, а также избавлять, освобождать кого-то от чего-то), который, в свою очередь, произошел от латинского dispensare (распределять).
Но, в общем, если запомнить, что слово французское, может, и с ударением у нас в русском языке будет проще. Ведь во французском ударение всегда на последний слог – значит, диспансе́р, и только диспансе́р.
Диспетчер
Звоню в домоуправление: на первом этаже, возле лифта, кто-то с корнем вырвал лампочку, нужен электрик. Десять минут звоню, пятнадцать – нет, никто не подходит. Наконец, когда терпение у меня заканчивается, трубку снимают.
– Можно мне с диспетчером поговорить? – спрашиваю.
Растерянный женский голос отвечает, что она уборщица, оказалась тут случайно. Пытаюсь выяснить, куда подевались диспетчеры.
– Нету никого, – отвечает женщина, – звоните завтра, заболели все диспетчера́.
Конечно, жаль, что диспе́тчеры заболели. Причем, еще раз подчеркну, именно «диспе́тчеры». Слово это мы используем так часто в разных ситуациях, так к нему привыкли, что оно кажется нам чуть ли не исконно русским. Однако это, конечно же, не так. Слово – иностранное и может считаться относительно новым заимствованием.
Диспетчер – работник, регулирующий из одного центрального пункта движение транспорта, ход работы предприятия и т. п. В русском языке это слово зафиксировано в словарях с 1930-х годов. Откуда его заимствовали? Из английского. Слово dispatcher – настоящее английское слово, и означает оно то же, что у нас: диспетчер, а также экспедитор. Происходит от глагола to dispatch – посылать, отправлять по назначению. Слово «диспетчер» позаимствовали из английского чуть ли не все славянские языки. И только в польском в том же значении используется другое слово – dyspozytor.
Это – история, пусть и недавняя. А с ударением всё просто. Во множественном числе оно никуда не уходит с корня, там и остается: диспе́тчеры, диспе́тчеров, диспе́тчерам и т. д. Орфоэпические словари специально указывают, что «диспетчера́» – это профессиональный жаргон, а в речи обычного человека – ошибка.
Дитя
«Маленькие детки – маленькие бедки, а вырастут велики – большие будут». Это лишь одна из пословиц, которые я обнаружила по поводу детей в словаре В. Даля. Вообще-то их там – море: «дитя не заплачет, мать не услышит», «не строй семь церквей, пристрой семь детей», «из одной клетки, да не равны детки», «покорному дитяте всё кстати».
Кстати, интересно, что слово «дитя» (оно, естественно, среднего рода) при склонении как бы увеличивается в размерах. Если именительный падеж – «дитя», то родительный – «дитяти». Соответственно, кому? – «дитяте», кем? – «дитятей», о ком? – «о дитяте».
Не знаю, как вы, а я нередко слышу нечто вроде: «Куда бы мне пойти в воскресенье с моим дитя?» Конечно же, спросить надо было, куда отправиться со своим дитятей.
Если верить Толковому словарю В. Даля, «дитятей» называли прежде всех до 14–15 лет, когда детство переходит в отрочество. Да уж, попробуйте к нынешним пятнадцатилетним обратиться «дитя»…
«Дитя» – слово очень старое. Считается, что раньше, в древности, выглядело оно как «деть», и это слово было, кстати, женского рода. По гипотезе этимологов, «дитя» восходит к индоевропейской форме dhei, что означало «кормить грудью». Похоже на правду – ведь недаром слова «мать» и «дитя» в человеческом сознании связаны накрепко.
Со времен В. Даля из языка исчезло много слов – родственников «дитяти». Существовал, например, глагол «детствовать» – то есть «быть дитятей», находиться в детском возрасте. «Детиться» – значило «множиться, плодиться». Было прилагательное «детный». Сейчас мы отдельно его не используем: можем сказать «бездетный», «многодетный», а просто «детный» – нет.
Ну и «дитятко» – ласковое обращение к детям – ушло, растворилось в веках, а жаль. Человек, к которому в детстве обращались «дитятко», по-моему, просто не может вырасти дурным.
