Престиж
TextSie sich und lesen Sie das Buch kostenlos:
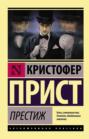


Zum Hörbuch
- Größe: 410 S.
- Kategorie: Moderne fremdsprachige Literatur
Посвящается Элизабет и Саймону
Автор выражает признательность Литературному фонду за оказанную помощь.
Благодарю также Джона Уэйда, Дэвида Лэнгфорда, Ли Кеннеди… и участников интернет-форума alt.magic.
Christopher Priest
THE PRESTIGE
© Christopher Priest, 1995
© Перевод. Е.С. Петрова, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Предисловие к русскому изданию
Почти во всех моих книгах присутствует сознательное обращение к традиционным элементам фэнтези и научной фантастики, но они предстают в новом ракурсе. Например, тема романа «Гламур» – превращение человека в невидимку – имеет в научной фантастике давнюю традицию: она восходит к одному из первых произведений Г.-Дж. Уэллса, а то и к более ранним источникам. У самого Уэллса, а также у множества его последователей и эпигонов невидимость предстает как достижение науки: ученые якобы открывают некий способ медицинского воздействия, неизвестный доселе процесс, который делает человека невидимым.
Я же пишу о невидимости совершенно иного рода. Она не получает никакого научного «обоснования» и зависит только от читательского ощущения психологического реализма. Английское слово science («наука») происходит от латинского «scientia», что означает «знание». Знание носит всеобщий характер и не замыкается в стенах лаборатории; но все равно кое-кто утверждал, что «Гламур» вообще не имеет отношения к научной фантастике.
В романе «Престиж» традиционный научный элемент сводится к тому, что… нет, не стану раньше времени раскрывать карты, просто скажу, что эта линия возникает ближе к концу повествования. Повторяю: блюстители чистоты жанра не устают твердить, будто такой прием, вкупе с научной невозможностью (по их мнению) описанных событий, не позволяет отнести «Престиж» к жанру научно-фантастического романа.
Не спорю, в этом есть доля истины. На первый взгляд, да и при более близком знакомстве «Престиж» не укладывается в рамки научной фантастики, по крайней мере поначалу. Фантастичность нарастает исподволь – думаю (точнее, хочу верить), вы это почувствуете. В первой половине романа, пока действие разворачивается преимущественно в XIX веке, все загадки оказываются весьма прозрачными. А может, это только кажется, потому что в центре сюжета находится магия. Но не колдовская, а сценическая магия, престидижитация, ловкость рук, иллюзия. Сущность иллюзионного представления как раз и состоит в том, что оно производит впечатление чуда или фантастики, хотя имеет под собой совершенно реальную, земную основу. Именно этот контраст и завораживает зрителя, ибо противоречивые начала крепко-накрепко связаны тайной фокуса. Она известна только самому артисту (ну, возможно, еще ассистенту). Любой ценой он должен сохранить свою тайну – это его искусство, его хлеб.
Тайна будоражит умы непосвященных. Любопытство публики составляет неотъемлемую часть магического опыта. После представления зрители расходятся довольные, но недоуменно покачивают головами. «Как он это делает? – размышляют они про себя. – Сомнений нет: в шкафчике было пусто. Его ведь открыли настежь, да еще развернули, чтобы мы удостоверились! Где же пряталась эта девушка – ведь внутри просто не было места?! А может, было?»
Иллюзионисты не только создают тайну, возбуждая всеобщее любопытство; они становятся заложниками своего ремесла. Оно требует постоянных упражнений вдали от посторонних глаз и в конечном счете перерастает в наваждение. Иллюзионистов отличает невероятная скрытность в сочетании с неукротимой пытливостью.
В мире сценической магии любой новый иллюзион вызывает волну удивления, зависти и любопытства. В 1921 году фокусник П. Т. Селбит придумал номер, в котором девушку якобы распиливали пополам. За каких-то пару месяцев все уважающие себя иллюзионисты сообразили, как это делается (или придумали иные способы), и не преминули включить иллюзию Селбита в свои программы. В 50-е годы ХХ века англичанин Роберт Харбин создал номер, получивший название «женщина-зигзаг»: в нем использовался шкафчик, куда у всех на виду заходила девушка, а потом из него сверху донизу выдвигались в одну сторону деревянные ящики. Когда иллюзионист выдвигает средний ящик, голова и ноги девушки вроде бы остаются на месте, а туловище, как можно подумать, явно сдвигается куда-то в сторону, образуя немыслимый зигзаг. Эта иллюзия не давала покоя другим фокусникам, и они бросились скупать тайное руководство, которое издал господин Харбин в помощь собратьям по профессии… заломив такую цену, чтобы жить припеваючи до конца своих дней.
Когда я писал «Престиж», американский иллюзионист Дэвид Копперфилд создал загадочный и эффектный номер, в котором он, как кажется из зала, кружит в воздухе над сценой и над головами зрителей, не пользуясь ни лонжей, ни иными приспособлениями. Все мои знакомые иллюзионисты, все, с кем я беседовал, собирая материал для романа, сходили с ума от любопытства. Объяснить увиденное было им не под силу: Дэвид Копперфилд научился летать, но ведь это всего лишь фокус! И все же, каким образом?..
Я на сто процентов уверен, что полеты Копперфилда – чистой воды иллюзия, что его номер – не более чем видимость и что объяснение будет прозаичным и обыденным, если не занудным. В чем же оно заключается? Не могу сказать – потому что не знаю.
И знать не хочу. Меня никогда не гложет любопытство. Видимо, потому я и выбрал своей профессией не магию, а литературу.
Итак, этот роман повествует о фокуснике, придумавшем и воплотившем блистательный номер, тайна которого охраняется так ревностно, что ее не могут разгадать даже собратья по магическому цеху. Вскоре любопытство конкурентов перерастает в испепеляющую страсть – и тайны множатся без конца…
Кристофер Прист
20 ноября 2002
Часть первая
Эндрю Уэстли
Глава 1
Все началось в поезде, следовавшем на север Англии, но вскоре мне стало ясно, что в действительности эта история тянется уже более ста лет.
Между тем в дороге мои мысли были заняты другим: я ехал в командировку, чтобы проверить полученное редакцией письмо о происшествии в какой-то религиозной секте. У меня на коленях лежала объемистая бандероль, доставленная с утренней почтой, но еще не распечатанная; когда пару дней назад отец позвонил, прежде чем отослать пакет, мне было не до того. Над ухом яростно хлопала дверь спальни: Зельда решила со мной расстаться и собирала вещи. «Хорошо, отец, – сказал я, глядя, как она проносится мимо с коробкой моих компакт-дисков. – Отправь по почте, я взгляну».
Купив у разносчика бутерброд и растворимый кофе в пластиковой чашке, я прочел утренний выпуск «Кроникл» и только после этого вскрыл присланную бандероль. В пакете оказалась внушительная книга в мягкой обложке, между страниц которой лежала записка, и отдельно – сложенный пополам использованный конверт. В записке было сказано:
Дорогой Энди, вот книга, о которой я говорил. Похоже, ее прислала именно та женщина, что мне звонила. Она выспрашивала, как тебя найти. Посылаю также конверт, в котором доставили книгу. Штемпель нечеткий, но разобрать можно. Мама ждет не дождется, когда ты к нам заедешь. Может, в ближайшие выходные?
С любовью, папа
Я не сразу вспомнил подробности нашего телефонного разговора. Отец тогда сказал, что на мое имя пришел какой-то пакет, а затем предположил, что отправительницей движут родственные чувства, поскольку она завела речь о моей прежней семье. Жаль, что я невнимательно его слушал.
Так или иначе, книга все-таки попала ко мне. Она называлась «Тайны сценической магии», и написал ее некто Альфред Борден. Судя по всему, в ней содержались описания различных манипуляций, карточных фокусов, трюков с шелковыми платками и так далее. Единственное показалось мне любопытным: недавно вышедшая книга выглядела как факсимильное воспроизведение старинного издания, что подтверждали очертания шрифта, иллюстрации и колонтитулы, вкупе с тяжеловесным стилем.
Я так и не понял, что именно должно было меня заинтересовать в этой книге, разве что имя автора – Борден; под этой фамилией я появился на свет, но в раннем детстве меня усыновила другая семья, и с тех пор я ношу фамилию приемных родителей. Теперь меня зовут Эндрю Уэстли – это мое официальное имя. Хотя из моего усыновления никто не делал тайны, я всегда считал Дункана и Джиллиан Уэстли своими настоящими родителями, относился к ним с любовью и вел себя как их сын. В наших отношениях и по сей день ничего не изменилось. К своим биологическим родителям я не питаю ровным счетом никаких чувств. Мне безразлично, что это были за люди и почему они от меня отказались; даже став взрослым, я не испытываю ни малейшего желания наводить о них справки. Что было, то прошло; они для меня ничего не значат.
Правда, с моим прошлым связан один вопрос, который грозит превратиться в навязчивую идею.
Я уверен – точнее говоря, почти уверен, – что у меня был брат-близнец, с которым нас разлучили при усыновлении. Не могу представить, какие на то были причины и куда судьба могла занести моего брата, но меня не покидает уверенность, что его усыновили одновременно со мной. Мысль о его существовании зародилась у меня лет в двенадцать-тринадцать. Как-то мне попалась книжка – кстати, приключенческая, – в которой говорилось, что близнецов нередко соединяет необъяснимая и явно мистическая связь. Даже если такие близнецы живут за сотни миль друг от друга или в разных странах, они разделяют ощущения боли, удивления, счастья, подавленности. Когда я это прочел, меня словно озарило.
Сколько я себя помню, меня не покидает смутное чувство, будто моя жизнь принадлежит не только мне. В детстве я не придавал этому особого значения и считал, в силу ограниченности своего житейского опыта, что так бывает у всех. Позднее, убедившись, что никому из моих приятелей такое не свойственно, я стал мучиться этой загадкой. Но книжка облегчила мое существование: казалось, все встало на свои места. Где-то у меня есть брат-близнец.
Наше с ним чувство единения определить довольно трудно – вроде бы ты кому-то небезразличен, даже ощущаешь на себе чей-то взгляд, – но иногда оно становится более отчетливым. В общем и целом, это некий постоянный фон, сквозь который лишь изредка проникают вполне различимые «послания», внятные и точные, хотя и не облеченные в словесную форму.
Время от времени – например, когда случается выпить лишнего, – я осознаю, как во мне зреет беспокойство моего брата, страх, что со мной случится какая-нибудь неприятность. Однажды я допоздна задержался в гостях и уже собирался сесть за руль, чтобы ехать домой, но тут меня обожгла вспышка тревоги, настолько сильная, что хмель как рукой сняло! Когда я попытался рассказать об этом приятелям, оказавшимся рядом, они только посмеялись. Тем не менее в ту ночь я ехал домой необъяснимо трезвым.
В свою очередь и мне доводилось тревожиться и переживать за брата-близнеца, а то и улавливать надвигающуюся опасность, и я «посылал» ему ободрение, сочувствие, уверенность. Я использую этот парапсихологический механизм, совершенно его не понимая. Насколько мне известно, он еще не получил удовлетворительного объяснения, хотя такие случаи не единичны и достоверно зафиксированы.
Однако мой случай представляется особенно загадочным.
Ни разу в жизни мне не удавалось напасть на след родного брата: если верить документам, у меня вообще не было братьев – что уж говорить о близнецах. Попав к приемным родителям в возрасте трех лет, я все же сохранил отрывочные воспоминания о прежней жизни – но не могу припомнить, чтобы у меня был брат. Отец с матерью ничего не знают; они говорят, что при усыновлении даже и речи не заходило ни о каких братьях.
У приемного ребенка есть определенные права. Главное из них – защита от биологических родителей: им запрещены любые официальные контакты с сыном или дочерью. Другое положение гласит, что по достижении совершеннолетия человек может ознакомиться с некоторыми обстоятельствами своего усыновления. К примеру, он вправе узнать имена своих биологических родителей, а также местонахождение суда, где было вынесено решение об усыновлении и сделаны соответствующие записи; ему не возбраняется их изучить.
Всеми этими правами я и воспользовался по достижении восемнадцати лет. Мне не терпелось отыскать сведения о брате. Из агентства по усыновлению меня направили в суд графства Илинг, где хранились документы, и я узнал, что в приемную семью меня отдавал отец, которого звали Клайв Александр Борден. Моя мать, Диана Рут Борден (в девичестве Эллингтон), умерла вскоре после моего рождения. Сперва я подумал, что из-за этого от меня и отказались, но выходило, что между ее кончиной и моим усыновлением прошло более двух лет и в течение этого срока отец растил меня в одиночку. При рождении мне было дано имя Николас Джулиус Борден. В документах ни слова не говорилось о другом ребенке – усыновленном или каком-то еще.
Впоследствии я ознакомился с актами регистрации рождений в архиве лондонской больницы Св. Екатерины, но в них утверждалось, что у четы Борденов других детей не было.
Однако, несмотря ни на что, моя духовная связь с братом-близнецом не прервалась и существует по сей день.
* * *
Книга, выпущенная американским издательством «Доувер пабликейшнз», была оформлена броско и со знанием дела. На мягкой глянцевой обложке красовался фокусник в смокинге, выразительно протягивающий руки к деревянному ящику, из которого, сверкая ослепительной улыбкой, выходила юная девушка; ее сценический костюм по тем временам считался, надо думать, весьма откровенным. Строчкой ниже имени автора было написано: «Под общей редакцией и с комментариями лорда Колдердейла». По нижнему краю обложки шла четкая, выразительная надпись крупными белыми буквами: «Знаменитое собрание секретов, защищенных клятвой». Текст на задней стороне обложки был гораздо содержательнее:
Эта книга, первоначально опубликованная в Лондоне в 1905 г. чрезвычайно малым тиражом, распространялась исключительно среди профессиональных фокусников, которые соглашались принести клятву о неразглашении ее содержания. Экземпляры первого издания, ставшие библиографической редкостью, сегодня практически недоступны широкому читателю.
Текст данной книги, впервые выходящей массовым тиражом, воспроизводится без сокращений и сопровождается всеми оригинальными иллюстрациями. Книга снабжена комментарием и примечаниями графа Колдердейла, известного в свое время знатока сценической магии.
Автор книги, Альфред Борден, прославился как изобретатель легендарного трюка «Новая транспортация человека». Он выступал под псевдонимом Le Professeur de la Magie[1] и был ведущим иллюзионистом начала ХХ века. На заре своей сценической карьеры Борден снискал похвалу Джона Генри Андерсона и благосклонность Невила Маскелайна; его современниками были Гудини, Дэвид Девант, Чун Лин-Су и Бюатье де Кольта. Он жил в Лондоне, но часто гастролировал в Соединенных Штатах и Европе.
В строгом смысле слова его книгу нельзя считать учебным пособием, однако содержащиеся в ней обширные сведения о приемах сценических фокусов привлекут как любителей, так и профессионалов – всех, кому интересен опыт выдающегося мастера иллюзионного жанра.
Забавно, что среди моих предков оказался иллюзионист, только мне от этого было ни жарко, ни холодно. Фокусы, в особенности карточные, да и многие другие, навевают на меня тоску. По телевидению нередко показывают грандиозные шоу, но меня никогда не тянуло узнать, как достигаются все эти эффекты. Помню, кто-то при мне высказал такую мысль: чем ревностнее охраняет фокусник свои секреты, тем тривиальнее оказывается их сущность.
В книгу Альфреда Бордена входила пространная глава о карточных фокусах; в другой главе, такой же затянутой, говорилось о фокусах с папиросами и монетами. Все это сопровождалось инструкциями и пояснительными схемами. Последняя глава посвящалась сценическим трюкам; на многочисленных рисунках были изображены кабинеты с потайными отсеками, ящики с двойным дном, столы с подъемным механизмом, спрятанным за кулисами, и прочий реквизит. Я бегло пролистал несколько десятков страниц.
В первой половине книги иллюстраций не было вообще: там излагались подробности жизни автора и общие сведения о жанре иллюзии. Эта часть начиналась так:
Начато в 1901 году.
Мое имя – мое настоящее имя – Альфред Борден. История моей жизни – это история тайн, на которых зиждется моя жизнь. На этих страницах они будут описаны в первый и последний раз; другой рукописи не существует.
Я появился на свет восьмого дня мая месяца 1856 года в приморском городе Гастингсе, рос крепышом и непоседой. Отец мой был известным на всю округу бондарем и колесных дел мастером. Наш дом…
На мгновение я вообразил, как автор этой книги садится писать мемуары. Почему-то мне виделся темноволосый неулыбчивый бородач, который, слегка ссутулившись и нацепив на нос узкие очки, зажигает у локтя яркую настольную лампу. Все домашние удаляются в благоговейном молчании, чтобы хозяин мог без помех взяться за перо. Скорее всего, эта картина не имела ничего общего с действительностью, но перечеркнуть наши стереотипные представления о предках довольно трудно.
Потом я задумался о степени нашего родства. Если я прямой потомок Альфреда Бордена, то он, вероятно, приходился мне прадедом, а то и прапрадедом. Учитывая, что он родился в 1856 году, во время написания этой книги ему было лет сорок пять; стало быть, моему отцу он едва ли приходился отцом – вероятно, их разделяло не одно поколение.
Предисловие было написано практически в том же духе, что и авторский текст; оно изобиловало длинными экскурсами в историю создания книги. Как выяснилось, в основе повествования лежали дневниковые записи Бордена, не предназначавшиеся для публикации. Колдердейл существенно расширил эти заметки, добавил разъяснения непонятных мест и ввел описания большинства трюков. Дополнительных сведений о жизни Бордена в предисловии не оказалось, но я рассчитывал найти их в тексте книги.
Впрочем, вряд ли из этого опуса можно было почерпнуть сведения о моем брате. А никто другой из кровных родственников меня не интересовал.
Эти размышления очень скоро были прерваны писком моего мобильного телефона. Я ответил почти мгновенно, чтобы не раздражать других пассажиров. Звонила Соня, секретарша моего редактора. Не иначе как сам Лен Уикем и велел ей набрать номер – удостовериться, что я уже в дороге.
– Энди, с машиной планы поменялись, – проворковала Соня. – Тормоза отказали. Эрик Ламберт отогнал ее в автосервис.
Она продиктовала мне адрес станции техобслуживания. Понадеявшись на этот рыдван – видавший виды «форд», вечно требующий ремонта, – я не поехал в Шеффилд на своем собственном автомобиле. Лен ни за что не утвердил бы мои расходы при наличии служебной машины.
– Больше Дядюшка ничего не хочет мне передать?
– Например?
– Отбоя тревоги не было?
– Нет.
– А что говорят правоохранительные органы?
– Пришел факс из тюрьмы штата Калифорния. Франклин как сидел, так и сидит.
– Ясно.
Мы закончили разговор. Я тут же набрал номер родителей и поговорил с отцом. Сказал, что направляюсь в Шеффилд, оттуда поеду в Скалистый край и могу, если они не против (конечно же, они не против), завернуть к ним переночевать. Отец обрадовался. Они с Джиллиан по-прежнему обитали в Уилмслоу, в графстве Чешир, а я теперь работал в Лондоне и выбирался к ним довольно редко.
Я сказал, что получил переправленную им бандероль.
– Как по-твоему, зачем тебе прислали эту книжку? – спросил отец.
– Понятия не имею.
– Читать-то ее собираешься?
– Чтиво, откровенно говоря, не в моем вкусе. Ну, полистаю как-нибудь на досуге.
– Мне бросилась в глаза фамилия автора: Борден.
– Мне тоже. Та женщина что-нибудь об этом говорила?
– Вроде бы нет.
Когда мы распрощались, я положил книгу поверх кейса, лежавшего у меня на коленях, и стал разглядывать проплывающую за окном местность. Небо заволокло свинцовыми тучами, по стеклу барабанил дождь. Мне требовалось сосредоточиться на деле, из-за которого я и отправился в эту командировку. В газете «Кроникл» я числился литературным сотрудником отдела новостей, но такое громкое название должности ровным счетом ничего не значило. Дело в том, что мой отец тоже был журналистом и в свое время состоял в штате манчестерской «Ивнинг пост», принадлежавшей тому же конгломерату, что и «Кроникл». Он гордился, что его сына взяли на работу в Лондоне, хотя, как я подозреваю, здесь не обошлось без его личных связей. Не могу сказать, что у меня бойкое перо, да и за время стажировки я никак себя не проявил. Меня давно гнетет мысль о том, что в один прекрасный день придется объяснять отцу, почему я оставил престижное, по его понятиям, место в редакции одной из крупнейших британских газет.
Но пока я тяну свою лямку. Нынешняя поездка стала, можно сказать, следствием материала, написанного мною пару месяцев назад, – о группе энтузиастов-уфологов. С тех пор редактор Лен Уикем, под началом которого я работаю, поручает мне освещать шабаши ведьм, случаи левитации, самовозгорания, возникновения выдавленных кругов среди посевов и прочие паранормальные явления. При ближайшем рассмотрении, как я убедился, такие эпизоды не стоят выеденного яйца, и мои материалы в большинстве своем так и не попадали на газетную полосу. Тем не менее Уикем раз за разом отправляет меня в командировки для выяснения подобных обстоятельств.
Впрочем, на этот раз дело обстояло не совсем так, как обычно. Уикем с тайным злорадством сообщил, что ему звонили представители секты, которые спрашивали, собирается ли «Кроникл» освещать недавнее происшествие, а услышав положительный ответ, настояли, чтобы это задание было поручено мне и только мне. Они читали мои предыдущие материалы и нашли, что в них присутствует необходимая доля здорового скептицизма, а это давало им повод надеяться на объективное изложение фактов. Несмотря на это – или вследствие этого, – история на поверку грозила обернуться очередной пустышкой.
Итак, в большом загородном особняке где-то в Дербишире обосновалась калифорнийская секта, называющая себя «Церковь ликования во имя Христа Иисуса». С неделю назад одна из прихожанок умерла естественной смертью, что засвидетельствовали лечащий врач и дочка покойной. Перед самой ее кончиной, когда она лежала без движения, в комнате появился неизвестный. Он встал у кровати и начал делать успокоительные пассы. Как только больная отошла в мир иной, незнакомец исчез, не сказав ни слова. Больше его не видели. Однако дочь покойницы и еще двое прихожан, которые зашли в комнату, когда он стоял у постели, опознали в нем основателя секты, священника по имени Патрик Франклин. Ему удалось привлечь в секту немало людей, поскольку он якобы обладал способностью к билокации, то есть мог находиться сразу в двух местах.
Происшествие заслуживало внимания по двум причинам. Во-первых, это был единственный случай, когда билокацию Франклина подтвердили лица, не входящие в его секту, причем среди этих свидетелей оказалась весьма образованная дама, известная в округе. Во-вторых, местонахождение Франклина в тот знаменательный день можно было установить с полной достоверностью: он отбывал срок в тюрьме штата Калифорния и, как только что сообщила мне на трубку Соня, не покидал пределов своей камеры.
