7000 дней в ГУЛАГе
Text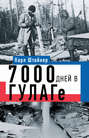


Zum Hörbuch
- Größe: 630 S.
- Kategorie: Biografien und Memoiren, Sachbücher, Fremdsprachiger Journalismus
Вся бесовская сила
Строительство Норильского металлургического комбината приобретало всё больший размах. Прибывали всё новые транспорты заключенных, работали круглые сутки, несмотря на погоду. Выходных почти не было. Морозы стояли такие страшные, что человеку казалось, будто у него мозг замерзает. Но не только мороз был страшен. Гораздо более страшными были снежные бураны. При пурге видимости не было никакой. Заключенные, идя на работу, вынуждены были держать друг друга за руки, чтобы их не унес ветер. Но иногда и это не помогало. Люди падали, словно снопы, и их тут же заметало снегом. В самый разгар пурги нам всегда казалось, что пришел конец света. Густой мрак, завывание ветра, свист и шипение – вокруг нас плясала и визжала вся бесовская сила. Иногда эта бешеная снежная круговерть длилась беспрерывно три-четыре недели. Заметало и бараки, и дороги. Приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы преодолеть пятидесятиметровый путь от барака до кухни. Заключенные постоянно боялись того, что метель снесет нас или унесет драгоценную посуду. Когда пурга начиналась во время нашего марша на работу, всё обычно кончалось суматохой. Маленькими группками все возвращались назад без конвоя. Многие заключенные сбивались с пути, и их засыпало снегом. Потом их мертвых или замерзших отыскивали невдалеке от лагеря. На стройке почти не было мест, где бы можно было согреться. Особенно в первые годы, когда еще ни одного здания построено не было. Иногда нам разрешали разводить большие костры.
Но страдали мы не только от лютых морозов и свирепой пурги. В Норильске четыре месяца в году не было солнца и стояла полярная ночь. Однако четырехмесячный полярный день действовал на организм гораздо губительней, нежели четырехмесячная ночь. Когда была ночь, заключенные меньше работали. Разумеется, в условиях лютых морозов, снега, льда, пурги и влаги необычно важную роль играла одежда, полностью сшитая на вате: и штаны, и телогрейка, и бушлат, и валенки. Политические заключенные почти никогда не получали новую одежду. Ее забирали себе лагерные чиновники. Но старая, потертая и заштопанная одежда не спасала политических от холода, поэтому они обматывались разными тряпками. И от этого были похожи на пугало: вместо лица виднелись лишь отверстия для рта и для глаз, а также кончик носа. Даже лучшие друзья зачастую не узнавали друг друга.
В лагерях были бригады, называемые «индусами», состоявшие из людей слабых и истощенных. От непосильной работы и голода люди в них стали походить на тощие скелеты. Они очень страдали от холода. Эти бригады использовались для вспомогательных работ – уборки снега или приведения в порядок лагерной зоны. Конечно, эти люди получали и самую плохую одежду: всю в пестрых заплатах, а вместо валенок у них на ногах были бурки – тряпичная обувь из старых автомобильных шин. От этого у них постоянно опухали ноги, отдельные части тела обмораживались, часто отмерзали руки или ноги. Ампутации были обычным явлением, ежегодно сотни калек отправляли из Норильска в другие лагеря НКВД.
Лагерное начальство по-зверски относилось к тем, кто потерял здоровье. В принципе, оно не признавало ни слабых, ни больных. Заключенный освобождался от работы лишь в том случае, если имел высокую температуру или становился калекой. Изнуренные люди ходили на работу до тех пор, пока могли передвигаться. Когда мы возвращались с работы в свои бараки, более сильные всегда вели под руку более слабых и изможденных. Это была ежедневная картина. Заключенных третировали и некоторые врачи, например Шевчук, Харченко и другие. Эти негодяи были в руках НКВД.
Судьба испанских борцов
После победы генерала Франко большинство солдат республиканской армии бежало во Францию, где их разместили в сборных лагерях. Неиспанцы, если они не были родом из стран, в которых господствовал фашизм, вернулись на родину. Часть испанцев уехала в Южную Америку, часть осталась во Франции, а остальные влачили жалкое существование в лагерях. Ни одна страна не желала принимать этих революционеров. Даже Советский Союз не хотел давать убежища этим борцам, большая часть которых была членами испанской компартии. Размещение этих людей вызывало все больше проблем у французского правительства.
В демократической прессе все чаще звучал вопрос: почему молчит советское правительство?
Наконец Сталин дал согласие принять детей республиканцев. В Советский Союз прибыло несколько транспортов с пятью тысячами испанских детей. MOПP[10] разместил их в детских домах. Самих бойцов не принимали, но Долорес Ибаррури и некоторым членам ЦК компартии Испании устроили сердечный прием. В благодарность, те рукоплескали Сталину, когда он ставил к стенке старых соратников Ленина. Однажды Мануильский[11] попросил Сталина принять несколько тысяч бойцов-республиканцев. Сталин иногда умел быть и великодушным. Он согласился и сказал:
– Но только смотрите, чтобы с испанцами не произошло такого же свинства, как с шутцбундовцами.
Испанцы в Париже оделись на деньги Советского Союза. Затем их посадили на советский корабль. В Одессе им, как когда-то шутцбундовцам в Москве, устроили торжественную встречу. Временно их разместили в гостиницах. Несколько недель испанцы отдыхали. Потом их расселили по разным городам Украины и России. Имевшие квалификацию пошли работать на заводы и фабрики, не имевших квалификации послали учиться. По указанию ЦК испанцам платили как самым высококвалифицированным советским рабочим. Кроме того, им не обязательно было выполнять норму. Так продолжалось три месяца. Потом им сказали, что они должны выполнять такую же норму, как и русские рабочие, но испанцы не восприняли это всерьез и продолжали работать прежними темпами. В конце месяца они пошли за зарплатой и увидели, что получили лишь несколько сот рублей, которых хватило бы всего лишь на восемь дней существования. Они начали бунтовать. Когда их стали успокаивать, темпераментные испанцы разошлись еще сильнее. Чтобы избежать скандала, профсоюз из своих средств выплатил разницу. Месяц прошел спокойно.
Квалифицированные рабочие зарабатывали столько, что им хватало лишь на скромную жизнь, зато неквалифицированные получали так мало, что не могли купить даже самого необходимого. Испанцы становились все более беспокойными. Многие бросили работу и уехали в Москву, где наведались в испанскую секцию Коминтерна. Там им помогли деньгами и отправили назад, на рабочие места.
На паровозостроительном заводе в Харькове, где работало сорок испанцев, произошла настоящая забастовка. Это привело к вмешательству НКВД. И будто по условному сигналу, во всех городах начались аресты испанцев. ОСО за «контрреволюционную деятельность» приговаривало их к восьми-десяти годам лагерей.
В 1940 году в Норильск прибыла группа из 250 испанцев. Дети юга должны были на Крайнем Севере отбывать свое наказание. Большинство из них заболело еще во время транспортировки. Доехавшие же рассказывали, что из Москвы их выехало более трехсот. В Норильске часть из них сразу отправили в больницу, а другую часть врачи признали непригодными к труду. Из двухсот пятидесяти испанцев сто восемьдесят нашли себе вечное успокоение в Норильске. Остальных в сорок первом году отправили в Караганду.
Штрафной лагерь Коларгон
В Норильске было несколько штрафных отделений для нарушителей дисциплины или совершивших преступление. В таких отделениях находились от одного до шести месяцев. Но были и такие, которые никогда не покидали штрафных отделений.
Самым страшным из всех штрафных отделений был находившийся на окраине Норильска Коларгон. Попадавший туда терял всякую надежду на жизнь. В Коларгоне было два режима – лагерный и тюремный. Начальник отделения распределял заключенных согласно виду наказания. Но на работу ходили все, независимо от категории. Разница была лишь в том, что заключенных с тюремным режимом по окончании работы запирали в камерах, а заключенные с лагерным режимом до определенного времени могли свободно передвигаться. В Коларгон попадали те, кто отказывался идти на работу, а таких среди уголовников было много. Для «настоящего вора» работать было стыдно. Они этот принцип отстаивали последовательно, что было не так трудно, так как лагерное начальство смотрело на них сквозь пальцы.
Но горе тому политическому, который по какой-либо причине отказался бы выходить на работу! Среди политических это делали лишь те, кому запрещали работать религиозные убеждения. Существовало много всяческих сект, самих различных вероисповеданий, но больше всего было так называемых субботников. Впрочем, не все субботники отказывались от работы, хотя и могли отказаться работать на «антихриста Сталина». Когда обычные дисциплинарные средства, такие как карцер или урезанный паек и т. п., не помогали, их отправляли в Коларгон, где они должны была жить и трудиться среди опаснейших преступников.
Заключенные с помощью разных способов увиливали от тяжелой работы. Они обычно где-нибудь прятались: некоторые отдирали доски от пола и залезали под пол барака, другие долго сидели в уборной, третьи прятались в морге. Но поскольку начальство наведывалось и туда, то они зарывались в гору трупов. Иные же и не пытались скрываться, а открыто заявляли, что они не могут выходить на работу. При этом они приводили разные причины: болезнь, нехватка теплой одежды, отсутствие валенок. В таких случаях бригадир ставил в известность заведующего отделом труда или кого-то из его многочисленных помощников. Помощник звал на помощь одного или нескольких вохровцев, и те, вооружившись дубинками, приходили в барак и требовали, чтобы заключенный вышел на работу. Если тот и дальше отказывался, его начинали бить. Обычно это заканчивалось тем, что упрямца отволакивали в карцер и там избивали.
Но случалось и так, что заключенного не удавалось выгнать на работу ни уговорами, ни силой. Заключенный раздевался догола, прятал одежду и залезал на нары, а вохровец не решался выгонять голого на сильный мороз.
Однако вскоре решили проблему таким образом, что заранее готовили новый комплект одежды. Но поскольку большинство отказывалось надевать этот резервный комплект, их силой стаскивали с нар, выносили на улицу и бросали в сани, запряженные лошадью. Там их укрывали мехами, привязывали веревками и в таком виде везли на место работы. А там им уже ничего не оставалось делать, как одеваться. Но работать они все-таки не могли: у большинства отмерзали члены. И тем не менее лагерное начальство этими мерами добилось того, что перестало увеличиваться число отказников от работы.
Заключенного, несколько раз отказавшегося выходить на работу, отправляли в Коларгон. Большинство штрафников в Коларгоне работало в каменоломне, но были там и сельскохозяйственные работы. Работать в Коларгоне было не намного тяжелее, чем в лагере, но условия там были настолько ужасными, господствовало такое своеволие, что нормальный человек такое выносить долго не мог. Если в лагере существовал определенный порядок, не позволявший доводить голодных и утомленных людей до полной потери работоспособности, что поставило бы под угрозу срыва выполнения плана, то в Коларгоне ничего подобного не было и начальство могло делать, что хотело, не боясь последствий.
Продукты воровали, как хотели, отдавая излишки тем, кто по работе этого менее всего заслуживал. Между уголовниками шла постоянная война. Они делились на две группы: так называемые «воры в законе» и «суки». «Ворами в законе» считались те, кто твердо придерживался принципа не делать компромиссов с лагерной администрацией. Это значило, что они не желают ни работать, ни быть погонялами, а хотят вести только паразитическую жизнь. Такие лишь ждали благоприятного момента, чтобы бежать из лагеря и на свободе, пусть самое короткое время, воровать, грабить, убивать, словом, действовать по своей «специальности». Бежать из Норильска было почти невозможно, но некоторые бежали из лагеря для того, чтобы в самом Норильске грабить и убивать имевшееся там небольшое количество вольнопоселенцев. Таких быстро ловили и снова судили, но им было все равно.
«Суками» считались те уголовники, которые были в хороших отношениях с лагерным начальством и чаще всего работали в лагере служащими, погонялами и осведомителями.
Война между уголовниками иногда принимала жестокие формы. Ежедневными явлениями стали убийства, тяжелые ранения и избиения. На стройплощадках часто происходили настоящие сражения. Вместо: оружия использовались инструменты. Уголовники бы уничтожили друг друга, если бы не вмешательство охраны.
Честному человеку было невыносимо жить в Коларгоне. Но не сладко приходилось и уголовникам. Выйти оттуда раньше срока было невозможно, поэтому они искали самые разнообразные способы освобождения. Самым распространенным было уродование себя. У многих не хватало мужества уродовать себя самим, и они проделывали это друг над другом. Обычно делалось это следующим образом: приволакивался пень, палач становился рядом с топором в руке, затем один за другим подходили самые храбрые и клали на пень два или три пальца. Таким образом они избавлялись от привлечения к тяжелым работам. Когда самоуродование приняло слишком большие размеры, администрация приказала не отправлять больше таких заключенных в больницу, а перевязывать их врачу на месте. Так они были вынуждены оставаться на стройплощадке. Многие от этих повреждений умирали, поскольку из-за отсутствия гигиены начиналось заражение.
Преступники искали и находили новые пути бегства из Коларгона. Они совершали новые тяжкие преступления, после которых их отправляли в тюрьму. Но это происходило лишь после очередного убийства. Например, какой-нибудь заключенный сидел у костра, уголовник же незаметно подходил к нему и проламывал череп. Только в 1939–1940 гг. таким образом было убито свыше четырехсот человек. Следствие длилось обычно три-четыре месяца, в это время преступнику запрещалось работать, и он весь день лежал в тюремной камере на нарах. Когда же и этот способ увиливания от работы принял массовый характер, начальник управления НКВД приказал вести расследование прямо в Коларгоне, не отправляя убийц в тюрьму.
Провокаторы
В НКВД не удовлетворялись лишь тем, что хватали невинных людей, бросали их в сотни тюрем и тысячи лагерей, разбросанных по всему Дальнему Северу, но еще и постоянно шпионили за ссыльными и заключенными. Среди осужденных они вербовали разных людей, которым вменяли в обязанность постоянно следить и подслушивать разговоры. Естественно, из невинно осужденного человека не так уж и сложно вытащить слова недовольства, ругательства или оскорбления в адрес режима и НКВД. Особое внимание в НКВД уделяли людям, считавшимся «опасными». НКВД создал целую сеть провокаторов, шпионов и осведомителей, которым взамен обещали легкую работу или досрочное освобождение.
Однажды подошел ко мне заключенный Рожанковский и спросил, откуда я родом. Я ответил, что я из Вены. Мне показалось, что его это очень обрадовало. Он сказал, что учился в Вене, и восторгался венскими красавицами. Мне было приятно встретить «земляка». Мы говорили обо всем и всяком. Рожанковского интересовало, трудно ли мне работать, хватает ли мне еды. Я рассказал ему все в точности, как было. Он обещал поговорить с одним своим приятелем на кухне, который будет меня подкармливать, а может и попробует меня туда устроить. Я был очень благодарен Рожанковскому. Через некоторое время он снова подошел ко мне и сообщил, что переговорил с шеф-поваром и тот готов кое-что для меня сделать. Когда я, наконец, обратился к шеф-повару Ларионову, тот спросил меня, работал ли я когда-нибудь на кухне. Я ответил, что не имею никакого понятия о приготовлении пищи.
– Ну ладно, я посмотрю, что можно для вас сделать, – сказал Ларионов.
Его, однако, интересовало и мое прошлое. Вкратце я рассказал ему, что я австриец и функционер компартии Австрии, что я много лет работал в компартии Югославии, что я некоторое время жил в Париже, а в 1932 году приехал в Москву. Ларионов внимательно слушал. Стараясь поощрить меня к дальнейшему разговору, он приказал повару накормить меня приличным обедом. Через несколько минут передо мной стояла алюминиевая миска с куском мяса и клёцками и лежал большой кусок хлеба.
– Сначала поешьте, Штайнер, а потом поговорим.
Блюдо мне очень понравилось, в комнате было тепло, я даже вспотел. Затем Ларионов спросил, не хочу ли я еще чего-нибудь. Я поблагодарил. Оставшийся кусок хлеба он завернул в бумагу, принес большой кусок сахара и, улыбнувшись, протянул мне все это.
– Скажите откровенно, Штайнер, когда вы гуляли по улицам европейских городов, думали ли вы о том, что у социализма может быть такое лицо?
– Нет, – ответил я коротко.
Но Ларионова не удовлетворил мой краткий ответ. Ему хотелось услышать дальнейший ход моих рассуждений, и мы продолжили разговор. Я говорил ему о том, что миллионы людей, которые и поныне верят в социализм, имеют о нем совершенно иное представление. Они твердо убеждены, как и я прежде, что в России строится новый мир, что это счастье не только для русского народа, что вскоре свобода и благоденствие овладеют всем миром. А что же из всего этого вышло? Режим насилия и террора, миллионы невинных, сидящих в лагерях и тюрьмах. Одним словом, обман. Ларионов слушал меня с восторгом и просил приходить еще.
– Приходите, когда проголодаетесь. Такие люди, как вы, не должны голодать. Я поговорю с нарядчиком отделения, чтобы вас устроить на кухне.
Я познакомился с сестрой Генриха Ягоды
В тот же день ко мне с кухни пришел человек и сказал, что меня зовет Ларионов. С явным удовольствием Ларионов сообщил мне, что ему удалось уговорить заведующего кухней Лехмана устроить меня на кухню, а он, Ларионов, позаботится о том, чтобы найти мне легкую работу. На кухне был жернов для перемалывания овса. Эту машину сконструировали сами заключенные. Ларионов отвел меня в небольшое помещение, показал этот жернов, объяснил, как им пользоваться, и спустя полчаса я уже молол. Я был счастлив. Работа была нетрудной, было тепло, кормили хорошо. Жернов работал целые сутки.
Моей сменщицей была сестра бывшего шефа НКВД Таисья Григорьевна Ягода.
Генрих Ягода, ее брат, бывший владелец аптекарского магазина, шестнадцать лет проработал в ГПУ. В 1933 году Сталин наградил его орденом Ленина, а в 1935-м назначил народным комиссаром Государственного политического управления. В 1938 году он обвинил его как агента иностранных держав. Ягоду приговорили к смерти и расстреляли.
Таисье Ягоде было около тридцати двух лет[12]. Это была высокая стройная женщина с черными, чуть тронутыми сединой волосами. Ее арестовали только за то, что она была сестрой Генриха. Осудили ее на десять лет лагерей. Много неприятностей пришлось ей натерпеться из-за того, что была она сестрой страшного наркома внутренних дел. И служащие, и охранники, и уголовники пакостили ей, где только могли. Она была счастлива, что я стал ее напарником. До меня с ней работал постоянно над ней издевавшийся уголовник. От повара я приносил столько еды, что хватало на двоих. Но когда однажды повара заметили, что я делюсь едой с Таисьей, то сказали, что мне больше ничего не дадут. Я пытался им объяснить, что бедная женщина ни в чем не виновата. Это не помогло. Они теперь перенесли свою ненависть и на меня. Сначала Таисья разговаривала мало, но в конце концов она мне стала доверять и рассказала подробности из своей жизни и жизни своего брата.
Однажды в воскресенье мы с ней сидели в помещении, где обрабатывали рыбу. Мы были одни. Таисья сказала, что я ей симпатичен и что она уже давно страдает без друга. Она прислонила голову к моей груди. Я уже много лет не был близок с женщиной. Хотя я сейчас жил в более-менее нормальных условиях и чувствовал себя в хороших кондициях, но Таисья, как женщина, по непонятным причинам, меня не привлекала. Я потихоньку отстранился от нее. В тот день я был в ночной смене, и Таисья оставалась со мной до одиннадцати часов. У меня был достаточный запас муки, и мы могли отдыхать часа три. Мы говорили с ней о ее брате. Я спросил ее, как же все-таки случилось, что его расстреляли, ведь он был близким сотрудником Сталина? Сначала она отказывалась отвечать, но потом заговорила о брате как об очень добром человеке.
– Если бы он был злым, он и по сей день занимал бы свой высокий пост. Мой брат должен был умереть. Он не мог более совершать все те злодеяния, которые от него требовал Сталин. Он и так много сделал такого, что приходило в столкновение с его совестью. Он жил в постоянной душевной борьбе. Его душевный кризис с каждым днем все обострялся. А в тот день, когда Сталин убил свою собственную жену, Аллилуеву, началась драматическая борьба. Сталин приказал моему брату найти надежного врача, который мог бы написать заключение, что его жена совершила самоубийство. Мой брат пригласил известного специалиста по болезням сердца Левина и объяснил ему ситуацию и требование Сталина. Левин ужаснулся. На это мой брат сказал ему, что он не покинет здание НКВД, пока не сделает того, что от него требуется. Левин решительно отказался. Через нескольких дней в советских газетах появилось сообщение о том, что врач Левин арестован за страшные преступления: он сознательно ставил неверные диагнозы, намеренно неправильно лечил руководящих партийных работников, приближая тем самым их смерть, соблазнял малолетних девочек и т. д.
Левина допрашивали и мучили денно и нощно несколько недель. Арестовали его семью. Наконец Левин сдался и подписал заключение, в котором значилось, что жена Сталина совершила самоубийство. А Левин был большим авторитетом в медицинских кругах. По Москве ходило много слухов по поводу смерти жены Сталина, шушукались о том, что здесь не все чисто. Авторитет Левина должен был положить конец этим слухам.
Левина отпустили. В газетах появилась краткая заметка о том, что обвинения против Левина оказались клеветой и что будут строго наказаны все те, кто оклеветал честного советского врача. Но его вскоре снова арестовали и он умер в тюрьме. Все это страшно подействовало на моего брата, и он постоянно размышлял, что ему делать.
Когда Сталин приказал ему убрать Максима Горького, брат оказался в тупике. Известно, что Максим Горький многие годы оправдывал сталинские преступления и поэтому считал себя вправе и поучать самого Сталина. Некоторое время Сталин это терпел, но когда чаша его терпения переполнилась, он решил Горького убрать. Конечно, выполнить это задание должен был мой брат, который часто бывал в доме у Горького, очень дружил с его снохой. Сейчас же он должен был убить человека, с которым дружил. Это было выше его сил.
Однажды Сталин спросил моего брата, как долго «еще будет смердеть» этот Горький. Мой брат испугался. Вернувшись домой, он предпринял все возможное, чтобы ближайших родственников отправить за границу. К сожалению, в этом деле он доверился своему другу Беседовскому, руководителю Иностранного отдела НКВД. Беседовский обещал ему помочь, а сам тут же попросился на прием к Сталину и раскрыл планы своего шефа. Брата тут же арестовали и присоединили к той группе большевиков, которых он сам же недавно арестовал: Бухарину, Рыкову, Пятакову и другим. И вскоре был расстрелян как контрреволюционер и агент империализма, – закончила свой рассказ Таисья.
На кухне я работал недолго. Всего несколько недель. Но причину, по которой меня оттуда выгнали, я узнал позже.
