Мифология. Фантастические истории о сотворении мира, деяниях богов и героев
Text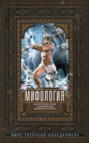


Zum Hörbuch
- Größe: 710 S.
- Kategorie: Legenden, Sagen und Mythologie
Царица Неба
Старинное китайское предание
Царица Неба, которую называют также Святой Матерью, в то время, когда она еще жила на земле, была фуцзянской девушкой и звали ее Лин. Это была чистая и благочестивая душа. Она умерла непорочной девушкой в возрасте семнадцати лет. С того времени ее божественная власть дает себя знать на море, почему особенно почитают ее мореходы. Если на них неожиданно налетит буря, они просят о помощи Царицу Неба, и она слышит их.
В Фуцзяни много моряков, и не проходит года без жертв, без того, чтобы море не унесло кого-либо. Конечно, и в своей земной жизни Царица Неба относилась с глубоким сочувствием к своим соотечественникам, а так как она всегда стремилась помочь утопающим, то, разумеется, она и теперь имеет обыкновение чаще всего появляться на море.
В каютах кораблей, плывущих по морю, имеется изображение Царицы Неба. На кораблях имеется также три талисмана, изготовленных из бумаги. На одном из них Царица Неба изображена с короной на голове и с царским скипетром в руке, на другом – в образе просто одетой девушки, на третьем она стоит босая, с распущенными волосами и мечом в руке. Если кораблю угрожает опасность, то сжигают первый талисман, и вслед за тем приходит помощь. Если же это не помогает, то сжигают второй талисман, а затем и третий. Если и после этого помощь не приходит, тогда уже ничего нельзя поделать.
Если налетает буря, и небо закрывают темные тучи, так что моряки теряют направление, то обращаются к Царице Неба. Тогда она зажигает на поверхности воды лампаду, горящую красным светом. Если моряки следуют за пламенем лампады, то они избегают опасности. Случается, что видят и самое Царицу Неба среди туч, когда она своим мечом разделяет ветры. Тогда ветры рассеиваются, улетают на север и на юг, а волны успокаиваются.
Перед священным изображением находится на корабле палка. Часто случается, что рыбы-драконы играют на поверхности моря. Это две гигантские рыбы, которые одна против другой так высоко выбрасывают воду, что она закрывает солнце и глубокий мрак окутывает море. Издали в этом мраке виден иногда только сноп лучей. Если корабль плывет прямо на него, он спасается и буря неожиданно утихает. Если моряки оглядываются назад, то они видят, как две гигантские рыбы изрыгают воду: корабль проходит как раз меж их пастями. Где эти рыбы плавают, там неподалеку от них всегда бушует буря. Поэтому сжигают бумагу или шерсть, чтобы драконовы рыбы не увлекли корабль в глубину, или воскуряют фимиам в каюте перед изображением Царицы Неба, а затем берут прислоненную к ее изображению палку и «палочный мастер» размахивает ею над водой. Тогда рыбы-драконы убирают хвосты и исчезают.
Случилось несколько столетий тому назад, что к Тайваню шло войско и военачальник освятил свое знамя кровью белого коня. Тогда внезапно на верхушке знамени появилась Царица Неба. Через мгновение она исчезла, но поход увенчался успехом.
В другую эпоху, во времена Куэн Луня, на министра Чжу Лина было возложено поручение торжественно ввести в исполнение обязанностей нового царя на островах Лиу-Киу. Флот двигался по морю к югу от Кореи, когда неожиданно налетела сильная буря и судно понесло к черному водовороту. Вода была черна, как чернила, солнце и луна утратили свой свет, и люди уже говорили, что судно попадет в черный водоворот, откуда не вышел живым ни один человек.
Моряки и путешественники с воплями ожидали смерти. Вдруг неожиданно неисчислимое множество маленьких огоньков появилось на поверхности воды, словно зажглось столько красных лампад. Это зрелище наполнило сердца моряков радостью.
– Мы останемся живы, – вздохнули они. – Это пришла Святая Мать.
И действительно, появилась прекрасная дева с золотыми серьгами, провела рукою по воздуху – и ветер утих, успокоились волны. И будто какая-то огромная рука повлекла корабль: с плеском разрезал он волны и неожиданно оказался вне черного водоворота.
Чжу Лин возвратился домой, рассказал о случившемся и просил воздвигнуть храм Царице Неба и причислить ее к сонму богов. И император исполнил его просьбу. С тех пор в каждом порту стоит храм богини Тьен-Хун – Царицы Неба. Каждый восьмой день четвертого месяца празднуется день ее рождения с принесением жертв и театральными представлениями[13].
Садко
Русская былина
Как во славном Новгороде жил гусляр Садко. Был он бедным человеком, ходил по честным пирам, веселил бояр знатных и купцов богатых своими песнями да игрой на гуслях. Но случилось однажды так, что не позвали Садко на пир, не позвали и на другой день, не позвали и на третий.
Пошел Садко от скуки к Ильмень-озеру, сел на берегу на горюч камень и заиграл на гуслях яровчатых. Играл с утра раннего до вечера позднего, а когда стемнело, взбушевались на озере волны и вода с песком сомутилася.
Одолел Садко страх, покинул он берег озера и возвратился в Новгород. Прошла ночь, но опять не зовут Садко на пир, не зовут на другой день, не зовут и на третий. Снова заскучал Садко и пошел опять на берег Ильмень-озера, сел на горюч камень и снова заиграл на гуслях яровчатых и играл с утра до ночи. А когда стемнело, взбушевались опять волны и вода с песком сомутилася, и устрашился вновь Садко, и вернулся он в Новгород.
Но опять не зовут бояре Садко на пир, не зовут на другой день и на третий. Снова со скуки пошел Садко к Ильмень-озеру и играл там на гуслях с утра до ночи. Опять к вечеру волны взбушевалися, и опять вода с песком сомутилася. Но на сей раз осмелел Садко, поборол в себе страх, остался на берегу озера, продолжая играть на гуслях. Вышел тогда из озера царь водяной и такие слова говорил:
– Спасибо тебе, Садко, что потешил нас в озере. У меня во озере как раз пир был, и всех гостей моих развеселил ты. И не знаю я, чем пожаловать тебя за это. Знаешь что? Ступай-ка ты домой в Новгород, завтра позовут тебя на пир к купцу. А когда все наедятся-напьются, то начнут по обыкновению хвастаться: один несчетной золотой казной, другой добрым конем, третий силой молодецкой; умный будет хвалиться старыми и честными отцом с матерью, а глупый – молодой женой. Аты скажи, Садко, лишь одно: «Знаю я, что в Ильмень-озере есть рыба золотая». А когда купцы богатые начнут с тобой спорить, ты побейся с ними об заклад: заложи свою буйну голову, а они пусть заложат лавки с дорогими товарами. Трижды закиньте потом невод шелковый в Ильмень-озеро, а я все три раза положу в невод по золотой рыбине. Так получишь ты в ряду гостином лазки с дорогими товарами и станешь богатым купцом новгородским.
Вернулся Садко в Новгород, айв самом деле на другой день позвали его на пир к купцу богатому. Много собралось здесь на пиру честном богатых новгородских купцов, и, когда все напились-наелись, начали по обычаю хвастаться. Один несчетной золотой казной, другой добрым конем, третий силой молодецкой, умный старым батюшкой да старой матушкой, глупый хвалился молодой женой. Один только Садко сидел среди них и ничем не похвалялся.
Тогда спросили у него купцы новгородские:
– Что сидишь молчишь, Садко, что ничем не похвалишься?
Отвечал им на это Садко:
– А чем же я могу похвалятися? Нет у меня несчетной золотой казны, нет у меня красивой молодой жены. Могу я только одним похвалиться: в Ильмень-озере есть рыба золотая.
Как начали спорить с ним богатые новгородские купцы, не верили, что в Ильмень-озере есть рыба золотая. Тогда предложил им Садко побиться об заклад:
– Заложу свою буйную голову, больше нечего мне заложить.
А купцы заложили шесть лавок с дорогими товарами, что в гостином ряду.
После того связали они невод шелковый и пошли к Ильмень-озеру. Забросили невод и видят – рыба золотая попала в него. Забросили второй раз – и во второй раз попала рыба золотая в невод. Забросили третий раз – и в третий раз вытащили золотую рыбу.
Делать нечего, отдали новгородские купцы шесть лавок с дорогими товарами в гостином ряду, и записался Садко в купцы новгородские.
С того времени стал Садко богатым купцом, а затем стал еще богаче, потому что торговал он в своем городе, ездил и в другие города далекие и всегда возвращался с большой прибылью. Взял жену Садко и построил себе палаты белокаменные, а палаты свои разукрасил по-небесному. Как в небе светит солнце красное, так и в теремах у него светило солнце красное, как на небе месяц светит, так светил месяц и в его теремах, как на небе звезды блестят, так и у него в терему звезды ясные. Так разукрасил Садко палаты свои белокаменные.
И устроил Садко у себя пир богатый. Много гостей собрал, богатых купцов и знатных бояр и еще настоятелей новгородских Луку Зиновьева и Фому Назарьева. И когда на пиру у Садко напились-наелись, то начали по обычаю хвастаться. Кто золотой казной хвастался, кто добрым конем, один силой богатырской, другой родом-племенем, самый умный хвастался старым батюшкой да старой матушкой, а глупый хвалился молодой женой. И сказал тут Садко:
– Эй вы, гости новгородские, купцы и настоятели новгородские! Собрались вы сейчас у меня на честном пиру и в моем доме пьяны-веселы. А как напилися и наелися, то расхвастались; один хвастает былью, другой небылицею. Чем же мне похвастаться? Есть у меня всего вдоволь, казна моя не убывает, славная дружина мне не изменяет, а скажу я вам вот что: не успокоюсь я до тех пор, пока не повыкуплю все товары новгородские, и худые, и добрые; и не будет больше товаров для продажи в городе.
Повскакали тут новгородские настоятели, поднялись Фома Назарьев и Лука Зиновьев и сказали:
– А что дашь в заклад, Садко? А если не сможешь повыкупить всех товаров в Новгороде?
И ответил им Садко:
– А назначьте заклад, какой надобен!
Согласились на тридцати тысячах золотых, и разошлись все гости со славного пира по домам.
Рано утром на другой день поднялся Садко, разбудил свою дружину, дал каждому денег достаточно и отправил по городу, а сам пошел в гостиный ряд, чтобы и там повыкупить все товары новгородские. Так он сделал и на второй день, и на третий. Почти что не было уже товаров в Новгороде для продажи, как прибыли тут товары московские и заполнили весь гостиный ряд. И задумался тогда Садко: «Если закуплю я все товары новгородские и вдобавок новые московские, а вскоре прибудут товары заморские, то ведь не смогу я один скупить товары со всего света. Пусть уж будет так для меня, купца новгородского, что богаче меня славный Новгород и не смог я повыкупить все товары в городе. Лучше отдам я те тридцать тысяч золотых, на какие бился об заклад!»
Как решил, так и сделал: отдал тридцать тысяч золотых. Построил он затем тридцать кораблей и нагрузил тридцать черных кораблей новгородскими товарами. Поплыл он по
Волхову, а с Волхова в озеро Ладогу, пересек Ладогу и выплыл в реку Неву, поплыл по Неве и вышел к синему морю. Плыл по синему морю и добрался до Золотой Орды, продал там с большой прибылью новгородские товары и много бочек-сороковок наполнил блестящим золотом, много бочек чистым серебром и крупным жемчугом.
Но как только корабли выехали в синее море, вдруг остановились они, волны хлещут, буря рвет паруса, ломает корабли. Стоят корабли на одном месте неподвижно; не идут корабли. Сказал тогда Садко своей дружине:
– Слушай, дружина моя хоробрая, сколько плавали мы по морю, а забыли дань уплатить царю морскому. Ныне требует он дани, какая ему полагается, – и приказал хороброй дружине своей корабельной бросить в море бочку с золотом.
Так дружина и сделала, бочку с золотом в море бросила, но буря не успокоилась. Налегают волны на корабли, буря рвет паруса и ломает черные корабли в синем море, а корабли стоят недвижимые. Опять сказал Садко своей дружине:
– Слушай, дружина моя хоробрая, видно, мало этой дани царю морскому. Бросьте-ка еще в море синее одну бочку серебра.
Так дружина и сделала, бросила в синее море боченок серебра. Но и тут буря не утихла, и корабли все стояли недвижимы. Тогда в третий раз сказал Садко своей дружине:
– Видно, и этого мало, бросьте еще в море одну бочку с жемчугом!
Бросили в море бочку жемчуга, но все так же недвижимы стояли черные корабли в море, волна била их со всех сторон, буря рвала паруса.
– Эй, дружина моя любезная, – сказал тогда Садко, – видно, требует царь морской живой головы у нас. Бросим жребий: берите каждый по ивовой палочке, пишите на них имена свои и пустите в море; я же изготовлю жребий из золота. Чей жребий пойдет на дно, тому из нас идти в море.
Так и сделали, и поплыли по воде жребии всех дружинников, а жребий Садко с плеском пошел на дно.
И сказал Садко:
– Неправильно бросили мы жребий. Вы сделайте жребии из золота, пишите на них свои имена, а я сделаю себе жребий дубовый.
Так и сделали, золотые жребии дружины поплыли по воде, а жребий Садко снова с плеском пошел на дно.
Тогда спять сказал Садко:
– Неправильно мы и сейчас бросали жребий. Пусть каждый сделает для себя жребий дубовый, а я себе сделаю липовый.
Так и сделали, но жребии дружины опять поплыли по воде, а жребий Садко с плеском пошел на дно. Обратился тогда Садко к своей дружине с такими словами:
– Видно, нечего делать, требует царь морской к себе самого Садко. Принесите-ка мне, любезная моя дружинушка, чернила, перо лебединое и лист бумаги гербовой.
Когда все принесли, сел богатый купец новгородский Садко на стул ременчатый ко столику дубовому. Потом стал писать завещание: отписал он все свое состояние, что оставил церквам, что нищей братии, что молодой жене, а остальное дружине своей хороброй. Как закончил, заплакал и сказал своей хороброй дружинушке:
– Ох, дружина моя любезная, положите вы доску дубовую на море, лягу я сначала на нее, чтобы не так страшно было мне погрузиться в пучину смертельную.
Взял он еще гусли яровчатые, горько заплакал и стал прощаться с дружиной своей хороброй, со всем белым светом и родным своим городом Новгородом. Затем опустился на дубовую доску, и понесло его по синему морю.
Быстро тронулись черные корабли, полетели, как вороны. А Садко остался в синем море.
Уснул Садко от страха на дубовой доске, а когда проснулся, то был он уже на дне морском. С удивлением увидел, что сквозь воду солнце светит, а сам он стоит как раз возле палат белокаменных. Вошел Садко в палаты, а там сидит царь морской и говорит Садко таковы слова:
– Здравствуй, Садко! Много ты по морю плаваешь, а морскому царю дани не платишь. А сейчас сам пришел ко мне во подарочек. Говорят, мастер ты играть на гуслях яровчатых: так сыграй на них и мне что-нибудь!
Видит Садко, делать нечего: стал играть на гуслях яровчатых, и как только зазвучали они, сразу пошел плясать царь морской. И от пляски его море синее всколебалося, расходились волны на море и стали разбивать корабли черные; много кораблей разбилось, и народу много погибло в синем море. Было тогда в море много людей православных, и стали они молиться Николаю Угоднику, чтобы спас он их от гибели.
Чувствует Садко, тронул его кто-то о правое плечо. Оглянулся – стоит сзади седой старичок и говорит ему такие слова:
– Довольно тебе, Садко, играть на гуслях яровчатых.
– Не по своей воле играю я, – отвечает седому старичку Садко. – Заставляет меня играть морской царь.
Тогда говорит ему опять старичок:
– Слушай, Садко, купец богатый новгородский! Порви-ка ты струны у гуслей, сломай у них шпинечики и скажи царю морскому: «Нет больше струн звонких, не держатся шпинечики, не на чем мне больше играть». Скажет тебе тогда морской царь: «Не хочешь ли ты жениться в море синем?» Ты ответь ему так: «Как хочешь, так и делай, на то твоя воля». Тогда скажет он тебе: «Приготовься к завтрашнему дню, выберешь сам себе невесту». И проведут перед тобой на другой день морских девушек. Пусть пройдут первые триста девушек, пусть пройдут и вторые триста, а когда пойдут перед тобой третьи триста, в конце их будет идти одна, по имени Чернава. Ты эту Чернаву и выбери в жены и счастлив тогда будешь. Но когда в первую ночь останешься один с девицей, веди себя с ней честно, не касайся ее поцелуями, и тогда попадешь домой в Новгород. А если поцелуешь девицу морскую, то навсегда останешься на дне синего моря. А когда вернешься на святую Русь и снова будешь жить в своем городе, построй тогда церковь соборную Николаю Угоднику, потому я не кто иной, как Николай Угодник.
Сказал и пропал седой старичок. А Садко порвал струны, сломал у гуслей шпинечики и не смог больше играть.
– Что такое, почему больше не играешь? – спросил морской царь и плясать перестал.
Отвечал ему Садко:
– Струны я порвал, шпинечики сломалися, нечего даже и пробовать на гуслях играть.
Но царь морской и дальше захотел его у себя оставить.
– Не хочешь ли ты жениться здесь в синем море на красной девице?
– В синем море должен я твою волю исполнять, – ответил Садко; и разрешил ему морской царь по собственному желанию выбрать себе жену из морских девушек.
На другой день утром повели перед Садко морских девиц-красавиц, чтобы мог он выбрать себе из них жену; стоял там рядом и царь морской. Прошли первые триста девиц, но Садко ни слова не вымолвил, пока они проходили. Прошли и вторые триста, а Садко снова ни слова не вымолвил, пока и эти проходили. А когда третья сотня пошла, то последней шла девица-красавица по имени Чернава, и тотчас же Садко ее облюбовал и попросил в жены.
Сказал тогда царь морской:
– Вот, Садко, нашлась и для тебя на дне синего моря жена под стать.
Сыграли веселую свадьбу, а когда кончился пир, богатый купец новгородский Садко отправился с морской девицей-красавицей в свою спальню на дне моря синего. Там заснул он глубоким сном и не пытался даже поцеловать новую жену.
А проснулся Садко – очутился в родном своем городе Новгороде на крутом склоне горы, где берет свое начало река Чернава. И видит – по Волхову бегут его черные корабли. Дружина думает, что Садко глубоко в синем море лежит, а жена Садко думает, что вместе с храброй своей дружиной Садко домой возвращается.
Прибыли все тридцать кораблей, и удивилась хоробрая дружина: Садко они оставили в синем море, а он уже стоит раньше их здесь, на крутом берегу реки Волхова. Радостно встретились они и пошли в палаты Садко, где богатый купец новгородский весело поздоровался со своей молодой женой.
Разгрузили затем корабли с драгоценным добром, с несчетной казной золотой, и построил Садко храм Николаю Угоднику, а другой храм Божьей Матери, покаялся во своих грехах и мирно стал жить потом в Новгороде. И не ездил больше по синему морю, а прожил всю свою жизнь в родном городе[14].
Музы
Греки считали поэзию даром муз, а мифы – истиной, изреченной музами. Поэтому мы начнем подробное рассмотрение греческих мифов с муз, подобно тому как два великих глашатая греческой мифологии Гомер и Гесиод также начинали свои песни с муз.
Уже Гесиод перечисляет имена девяти муз. Но лишь более поздняя традиция так разделила между ними роли: Клейо (по-латыни Клио) – богиня истории, Мельпомена – трагедии, Талейя (Талия) – комедии, Евтерпа – лирической поэзии и музыки, Терпсихора – танцев, Эрато – любовной поэзии, Каллиопа – эпоса, Урания – науки, главным образом астрономии, и Полигимния – богиня гимнов. Гесиод встретил муз на Геликоне, Гомер называет их олимпийками, но они пребывали также и на горе Парнасе, где воды Кастальского источника наделяли поэтическим талантом и даром пророчества того, кто пил их. В Северной Греции музы обитали на горе Пинде, в Темпейской долине и вблизи этой долины, в Пиерии, почему и звали их Пиеридами. В общем, они жили в горах, в местностях, где были кристально-чистые источники и многоводные реки, на лоне вдохновляющей природы. Их храмы обычно находились вне городов. Лавр был их священным деревом. Их священными животными были пчелы и стрекочущие цикады (по-гречески – tettix, по-латыни – cicada). Сами они в виде роя пчел привели ионийских колонистов на их новую родину, и пчелы же принесли дар муз – медовый голос мальчику – избраннику муз (в легенде о Пиндаре). Цикадой стал человек, превратившийся в маленькое звонкоголосое насекомое из-за своей любви к музам, чтобы вечно петь «лилейно-чистым голосом». Когда музы танцевали на Геликоне, то вся одушевленная природа наслаждалась их пением. Звенела цикада, своим пением вызывая в памяти легенду о ней. Она как бы говорила: «И я была человеком, и, пока я была им, я всегда пела. Теперь, когда со мной произошло превращение, я сохранила свою прежнюю страсть к пению». Жаворонки, ласточки и лебеди стаями танцевали вместе с богинями. Музы господствовали и над дикими силами природы. Если звучали их фанфары, то разлившиеся воды Нила возвращались снова в прежнее русло, и снова становилось рекой то, что было морем, и волны вплоть до нового разлива пребывали с музами. Музы укрощали грубые стремления людей. Граждане Кротона по совету Пифагора воздвигли музам храм за то, что они, богини созвучия, гармонии, ритма, своим присутствием устанавливали согласие среди граждан. Музы всегда танцевали, всегда пели и перебирали струны лиры, но, когда они видели, что Аполлон становился во главе их хора, они начинали петь еще лучше, чем прежде, создавая дивно прекрасные мелодии. Ибо Аполлон был Мусагетом – руководителем хора муз. Атрибут «мусагет» прилагался и к имени Геракла, богочеловека, обладавшего могучим телом, потому что его сила приносила земле мир, освобождая ее от господства чудовищ в образе людей и животных. И вообще все то, что нарушало согласие, гармонию в мире, греки называли amuson (грубый, негармоничный).
Превосходство даров муз над грубой силой наглядно показывает миф о близнецах Антиопы – Амфионе и Зете. Миф о братьях-близнецах, строящих городские стены, – это прежде всего и вместе с тем и миф о роковом соперничестве братьев (таковы предания о Ромуле и Реме, об Аттиле и Буде). Мотив соревнования прослеживается и в мифе о строительстве городских стен в Фивах, хотя в этом мифе между братьями не возникает соперничества. Амфион и Зет воспитывались среди пастухов, как Ромул и Рем. О них известно, что они были беспощадны, когда вместе выступили против царицы Дирке, преследовавшей их мать. Эту злую царицу они привязали к одичавшему быку и гнали быка до тех пор, пока измученная Дирке не превратилась в источник. Когда братья получили власть в Фивах и решили обнести незащищенный город стенами, то, соревнуясь между собой, они, однако, действовали в согласии. Зет, пользуясь своей чрезвычайной силой, катил к строительству огромные камни, а благодаря звукам лютни Амфиона камни еще большего размера сами двигались к городу и сразу же укладывались в ряд друг возле друга, в порядке, олицетворяющем гармонию строительства. Недаром женой Кадма, основателя города, была прелестная дочь Ареса и Афродиты – Гармония. В стенах города, возведенных благодаря мелодии семиструнной лиры, роковое соперничество уже других братьев возникло впоследствии, его навлек на более позднее поколение Эдип, внук Лабдака, внука Кадма. Но в трагедии, повествующей о двух братьях, Этеокле и Полинике, павших от руки друг друга, пейзаж в глубине сцены напоминает о древней гармонии: это семь ворот Фив, которые предание связывает то с числом семи планет, выражающих самую высшую степень гармонии в мировом порядке, то с семью струнами лютни Амфиона.
Обращение к музам (по-латыни invocatio), обязательное согласно правилам поэтики, осталось чуть ли не до наших дней в качестве начала эпических произведений. У Гомера такое обращение является в известной степени требованием религиозным: согласно этому муза высказывается устами поэта, богиня поет гнев Ахиллеса, она же воспевает странствия многоопытного Одиссея. Поэт должен быть покорен музе или музам (ибо наши источники говорят иногда об одной музе, но иногда о трех или семи, а чаще всего – о девяти музах). Музы – богини, дочери Зевса, и они принадлежат к счастливым обитателям Олимпа. Они всюду присутствуют и все знают, в то время как смертные люди лишь улавливают далекие вести, не обладают знанием и ни о чем не могли бы иметь ясного представления без муз. Гомер упоминает о Фамир иде, фракийском певце, осмелившемся соперничать с музами, которые в наказание отобрали у него его божественный голос, сделав певца немым. Сам Гомер чувствует, что если бы даже у него было десять языков и десять уст, то и тогда он не смог бы перечислить все греческие корабли, стоявшие под Троей, если бы олимпийские музы, дочери эгидодержавного Зевса, не вызвали в нем воспоминаний о них. Лишь в минуты творческого вдохновения из клубящейся туманной глубины неясных воспоминаний возникает поэтическое произведение с резко очерченными контурами, в безупречной ясности – Мнемосина, «память», по Гесиоду, мать муз. Греки приписывали присутствию муз, связанному с субъективным чувством поэтического вдохновения, уверенность поэта в себе: удовлетворение найденным, а не придуманным образом, удовлетворение словом, единственно возможным, не заменимым никаким другим. Эта убежденность вселяла безусловное доверие к словам вдохновенного поэта. Поэтому поэт – святой человек, поднять руку на которого – преступление. И поэт при таком восприятии его деятельности взирает на себя как на автодидакта или только как на средство для передачи высказываний божества: «Я автодидакт (ученик самого себя), то есть не человек меня научил, а бог вложил в мою душу героические песни», – говорит Фемий, италийский певец, приказывая этими словами Одиссею пощадить его.
Гесиод пас свое стадо, как простой беотийский пастух, под горой Геликон, когда встретился с музами. Их первые слова были словами упрека. Музы клеймили позором полуживотную жизнь пастухов, погрязших в ежедневных заботах о куске хлеба, их простые и грубые радости, состоявшие лишь в наслаждении едой и питьем. Так Гесиод осознал закономерность окружающего его мира. Он почувствовал, что посвящение муз открыло ему глаза на более глубокую взаимосвязь природы и общества. Теперь он вдруг заметил танец муз вокруг фиолетового источника. Своими нежными ногами дочери Зевса исполняли танец у источника и у алтаря Зевса. Об одном из источников существовало у пастухов предание: он бил там, где копыта чудесного коня Беллерофонта, Пегаса, коснулись известковой скалы, поэтому источник этот и назывался Гиппокреной, Конским источником. Здесь, а также в волнах реки Пермес купаются музы. Отсюда музы отправлялись в путь и, окутанные густым туманом, ночной порой посещали поэта, ибо тот, кто хоть раз подсмотрел танцы муз в их жилище на горе Геликон вокруг фиолетового источника, тот уже всюду слышал их прекрасные голоса, воспевающие богов. Ведь музы пели прежде всего о богах и о героях, ведущих свое происхождение от богов.
Античный поэт истолковывал покоряющую силу вдохновения как невозможность противостоять откровениям божества. Гесиод с той самой минуты, когда музы вдохнули в него дар песни, пел о происхождении вечных, блаженных богов, начиная и заканчивая свои песни музами. При этом едва ли он успевал спросить себя, какое он имеет отношение ко всему этому. Он стал слугой муз, песнь для него стала превыше всего, хотя после того, как проходили часы священного вдохновения, поэт снова становился существом грубым и низменным, не умея в собственной повседневной жизни найти объяснение этому беспрекословному служению музам, отодвигавшему на задний план все остальное. Эмблемой избранности служила, как скипетр в руке царя или как жезл, украшенный повязкой бога в руках жреца, покрытая листвой ветка лавра. Музы сами требовали, чтобы поэт срывал с зеленеющего лаврового дерева покрытую листвой ветвь, которую можно было ежедневно найти на склоне горы: лавровая ветвь будет «чудесной» в руках поэта. Символом библейского откровения было вырезанное на камне учение (десять заповедей), сила которого считалась неизменной, к которому нельзя было что-либо добавить, из которого ничего нельзя было отнять. Откровение же муз – миф возрождался каждым поэтом и, обогащаемый новыми чертами, всегда представал обновленным.
«Мы можем произнести немало лжи, похожей на правду, но мы можем также, если захотим, пропеть и правду», – говорят о себе музы Гесиода. Гомер делает ударение на том, что словам муз можно доверять. Одиссей испытывал Демодока как прорицателя, в словах которого он сомневался, и признал его божественным певцом лишь после того, как услышал из его уст правдиво переданный рассказ о собственных переживаниях Одиссея в Трое. Гесиод подчеркивает также другую сторону поэтической деятельности. Музы – дочери Мнемосины («памяти»), но их сущность, безусловно, выражается игрой фантазии. Начиная с Гомера и кончая поэтами поздней Античности (например, римлянином Клавдианом), все поэты в течение более тысячи лет испытывали свои силы почти исключительно в том, что вновь и вновь разрабатывали мифы, нередко одни и те же. Но если это так, то не является ли мифология не более как совокупностью сюжетов, заслуживающих поэтической разработки? Ибо действительно в мифологии фигурируют одни и те же сюжеты, но в самой различной разработке! И это бесспорно. К этому можно добавить, что существующие различия проявляются не просто в незначительных деталях, не только в окраске. Более того, противоречащие друг другу варианты нельзя всегда разделить между различными эпохами и различными районами, а также между различными религиозными общинами, но часто признается подлинность всех противоречащих друг другу вариантов, так что противоречащие друг другу варианты мирно уживаются в произведениях одного и того же поэта.
Так, у Эсхила Фемида то дочь Геи, то тождественна с Геей, потому что связь этих богинь по происхождению, равно как их тождественность, хорошо выражает идею, что порядок общественной жизни, представляемый Фемидой, богиней справедливости, в конце концов основан на закономерности природы. С другой стороны, закономерность природы проявляется в более конкретных чертах и самым решительным образом требует от человека приспособления к ней. Это правильные, последовательные перемены, совершающиеся в природе от весны до весны, олицетворенные в женском божестве Геи. Далее, если Фемида – дочь Геи или даже тождественна с ней, то такое представление сейчас же заставляет нас предположить, что возникновение самой идеи закона тесно связано с возникновением собственности на землю.
Мифологический синоним, то есть тождество Фемида-Гея, возможно, принимает во внимание уже Гесиод. Беотийский поэт, разработавший понятие справедливости как оружия классовой борьбы крестьян, воплотил это понятие в такой образ: оры – дочери Фемиды, оры – богини времен года. Греки первоначально выделяли только три времени года, соответственно этому в их представлении существовали три оры. Их имена: Дикэ – справедливость, Эвномия – законность, Эйрена – мир. Следовательно, оры представляют собой не только законы природы, выраженные в смене времен года, они представляют и общественный порядок с его законами, осуществляемый человеком; присутствие ор – гарантия общественного порядка. Между прочим, Гесиод показывает также очень поучительный пример в другом отношении, а именно: когда он ищет ответа на сильно занимающий мифологическую фантазию народа вопрос – почему человек должен вести борьбу с заботами и горестями и главным образом почему он должен тяжелым трудом добывать свой хлеб, он предлагает в качестве ответа для свободного выбора как равноценные два мифа, как бы исключающие друг друга своими эпическими деталями: это – миф о мировых эпохах, начинающийся утраченным золотым веком, и миф о Прометее и Пандоре.
