В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине
Text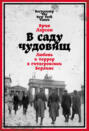


Zum Hörbuch
- Größe: 570 S.
- Kategorie: Biografien und Memoiren, Sachbücher, Fremdsprachiger Journalismus, Journalismus
Часть II
Квартирный вопрос в Третьем Рейхе

Глава 6
Соблазны Берлина
Первые дни в Берлине Марта провалялась с простудой. Когда она лежала в постели в люксе в «Эспланаде», приходя в себя, ее навестила Зигрид Шульц – американка, вот уже 14 лет работавшая берлинским корреспондентом газеты Chicago Tribune, на которую еще недавно трудилась и Марта. Теперь Зигрид занимала должность руководителя центральноевропейского бюро этой газеты. Ей было 40 лет, ростом она была около 160 см (как и Марта), у нее были светлые волосы и голубые глаза. «Немного пухловата, – писала о ней Марта, – с роскошнейшими золотистыми волосами»[195]. Несмотря на скромные габариты и ангельский вид, Зигрид прославилась как среди собратьев-журналистов, так и среди нацистских чиновников цепкостью, прямотой и полнейшим бесстрашием. Она проникала на любые дипломатические приемы и часто посещала вечера, устраиваемые Геббельсом, Герингом и другими нацистскими вождями. Последний с несколько извращенным восхищением называл ее «чикагским драконом»[196].
Вначале Зигрид и Марта поболтали о всяких пустяках, но вскоре разговор коснулся стремительного преображения Берлина в течение полугода пребывания Гитлера на посту канцлера. Зигрид поведала некоторые факты, указывающие на гонения на евреев, коммунистов и вообще всех, кто, по мнению нацистов, не сочувствовал революции. В некоторых случаях жертвами становились и граждане США.
Марта возражала, что в Германии в разгаре процесс исторического возрождения и что неприятные инциденты, несомненно, являются следствием охватившего страну безумного энтузиазма. За несколько дней пребывания в Берлине Марта не увидела решительно ничего, что подтверждало бы правоту Зигрид.
Но последняя настойчиво рассказывала ей о расправах, о том, как нацисты без суда и следствия отправляют людей и в «дикие» лагеря – импровизированные тюрьмы, под управлением нацистских военизированных формирований выросшие как грибы по всей стране, и в «традиционные» тюрьмы – так называемые концентрационные лагеря (Konzentrationslager, сокращенно KZ). Один такой лагерь был открыт 22 марта 1933 г.[197] Об этом на пресс-конференции объявил 32-летний партайгеноссе Генрих Гиммлер, в прошлом фермер, занимавшийся разведением кур, а ныне начальник мюнхенской полиции. Лагерь располагался в помещении бывшего оружейного завода близ очаровательной деревушки Дахау. До него можно было быстро добраться на поезде из Мюнхена. В лагере томились сотни (а может быть, и тысячи – никто не знал точно) заключенных. Большинство из них оказались за решеткой не по каким-то конкретным обвинениям, а вследствие «защитного ареста». Это были не евреи (ими займутся позже), а коммунисты и члены либеральной Социал-демократической партии. Режим в лагерях был очень строгий.
Марту начали раздражать попытки Зигрид испортить ее радужное настроение, но сама посетительница ей понравилась. Марта поняла, что эта женщина может стать доброй подругой, поскольку у нее было множество знакомых среди журналистов и дипломатов. Расстались они вполне дружески, однако встреча не поколебала уверенности Марты в том, что набирающие силу революционные изменения – героический эпизод в истории страны, в результате которого родится новая, здоровая Германия.
«Я не верила всему, что она говорила, – позже писала Марта. – Мне казалось, что она сильно преувеличивала и вообще немного нервничала»[198].
Выйдя из отеля, Марта не заметила никаких проявлений насилия, не увидела людей, съежившихся от страха, не ощутила атмосферы репрессий. Город восхищал ее. То, что осуждал Геббельс, приводило ее в восторг. Повернув направо и оставив в стороне прохладную зелень Тиргартена, она вскоре вышла на Потсдамерплац, одну из самых оживленных в мире площадей со знаменитым светофором на перекрестке пяти улиц (считалось, что это был первый светофор, установленный в Европе). В то время в Берлине насчитывалось лишь 120 000 автомобилей, но, когда бы вы ни оказались на этой площади, создавалось впечатление, что все они слетаются сюда, как пчелы к улью. За водоворотом машин и толпами пешеходов можно было наблюдать, сидя за уличным столиком «Кафе Йости». Здесь же располагался «Хаус Фатерлянд» – пятиэтажный ночной клуб с 12 ресторанами и кафе, которые могли одновременно обслуживать до 6000 посетителей; в баре «Дикий Запад» официанты щеголяли в огромных ковбойских шляпах, а на «Рейнской винной террасе» над посетителями каждый час разражалась небольшая искусственная гроза с молниями, громом и (к большому огорчению дам, облаченных в натуральные шелка) брызгами дождя. «Здесь так и веет юностью, беззаботностью, романтикой, здесь так чудесно, отсюда не хочется уходить до утра! – писал один из посетителей. – Это самое веселое местечко в Берлине»[199].
Двадцатичетырехлетней женщине, не обремененной работой и финансовыми заботами, а кроме того, планирующей вскоре вырваться на свободу из изжившего себя брака, Берлин предлагал нескончаемую череду соблазнов. Не прошло и нескольких дней, как Марта уже шла на дневное «свидание-чаепитие» со знаменитым американским корреспондентом Хьюбертом Никербокером (друзья называли его просто Ник[200]), писавшим для нью-йоркской The Evening Post[201]. Он повел девушку в «Эдем» – печально знаменитый отель, где в 1919 г. коммунистку Розу Люксембург сначала избили до полусмерти, а потом отвезли в расположенный неподалеку Тиргартен и убили.
Но это было давно, а теперь Марта с Ником танцевали в чайном зале «Эдема». Ник, невысокого роста, костлявый, рыжеволосый и кареглазый молодой человек, вел партнершу умело и грациозно. Разговор, разумеется, зашел о Германии, и Никербокер, как и Зигрид Шульц, попытался кое-что рассказать Марте о политике страны, о гитлеровском режиме. Но Марту это не интересовало, и Ник переключился на другие темы. Больше всего молодую американку забавляли веселящиеся немцы и немки. Ей нравилось «смотреть на их смешную, чопорную манеру танцевать, слушать непонятную гортанную речь, сопровождаемую непринужденными жестами, наблюдать за их поведением – они были как дети, желающие получить от жизни все»[202].
Пока ей нравились немцы, с которыми она познакомилась; во всяком случае, они нравились ей больше, чем французы, которых она встречала во время учебы в Париже. Она писала, что, как ей казалось, немцы, в отличие от французов, «не склонны к воровству, не эгоистичны, им не свойственны ни торопливость, ни холодность, ни суровость»[203].
•••
Оптимистический взгляд Марты на происходящее разделяли многие иностранцы, посещавшие тогда Германию, и прежде всего столицу – Берлин. Дело в том, что в городе почти все выглядело и работало как прежде. У отеля «Адлон» (Унтер-ден-Линден, 1), как и прежде, продавались сигары (а Гитлер, как и прежде, сторонился этого отеля – он предпочитал расположенную неподалеку гостиницу «Кайзерхоф»). Каждое утро берлинцы гуляли в Тиргартене, многие – верхом. Тысячи жителей таких районов Берлина, как Веддинг или Онкель-Томс-Хютт, приезжали в центр города на поездах и трамваях. Нарядные мужчины и женщины сидели в «Романском кафе», пили кофе и вино, курили сигары и сигареты, блистали остроумием, которым славились берлинцы. Звучал берлинский диалект – так называемый Berliner Schnauze (буквально – «берлинская морда»)[204]. Со сцены кабаре «Катакомбы» Вернер Финк[205], как и прежде, высмеивал новый режим, рискуя быть арестованным. Во время одного из выступлений кто-то из зала громко обозвал его «вшивым жидом». Артист мгновенно парировал:
– Я не еврей. Я только кажусь умным[206].
Зрители расхохотались.
Даже дни, как и прежде в это время года, стояли чудесные. «Сияет солнце, – писал Кристофер Ишервуд в своих «Берлинских рассказах»[207], – а Гитлер – хозяин этого города. Сияет солнце, а десятки моих друзей ‹…› томятся в тюрьме, а может быть, уже погибли»[208]. Хотелось верить, что в городе все идет как обычно. «Я увидел отражение своего лица в зеркальной витрине магазина и поразился, заметив, что улыбаюсь, – писал Ишервуд. – В такую прекрасную погоду невозможно было удержаться от улыбки». Как обычно, по городу разъезжали трамваи. Как обычно, по тротуарам шли пешеходы. Все вокруг казалось «странно знакомым, удивительно напоминающим о былом, таком привычном и приятном – так бывает, когда смотришь на хорошую фотографию».
Но за этим фасадом стремительно разворачивались грандиозные преобразования, революционные изменения, затрагивающие все стороны повседневной жизни. Они происходили без лишнего шума и, как правило, незаметно. Центральное место в них занимала государственная кампания, нацеленная на захват контроля над всеми общественными и политическими процессами в стране, – гляйхшальтунг[209], целью которого была идеологическая унификация, выстраивание граждан, министерств, университетов, культурных и общественных институтов в единую линию в соответствии с представлениями и планами национал-социалистов[210].
Гляйхшальтунг осуществлялся с головокружительной скоростью и затрагивал даже те сферы жизни, которые не регулировались законом напрямую. Немцы сами, по доброй воле, отдавали себя под власть нацистов. Это явление называли «самоконтроль»[211]. Перемены происходили так быстро и таким широким фронтом, что немцы, на какое-то время уезжавшие из страны (по делам или на отдых), вернувшись, не узнавали ее. Они чувствовали себя персонажами фильма ужасов, возвратившимися в родной город и увидевшими, что люди, которые когда-то были их друзьями, клиентами, пациентами, покупателями, изменились, причем не так-то просто было понять, как именно. Социалистка Герда Лауфер писала, что испытывала «глубокое потрясение», видя, как люди, которых она давно знала и считала друзьями, «мгновенно менялись»[212].
В отношениях между соседями исчезла доброжелательность. Из мелкой зависти они писали друг на друга доносы в СА (Sturmabteilung (SA) – штурмовые отряды) или недавно созданную тайную государственную полицию (Geheime Staatspolizei), которую почти сразу начали называть «гестапо», используя аббревиатуру, пущенную в ход одним смекалистым почтовым служащим, которому было лень каждый раз писать на почтовых отправлениях полное название структуры[213]. Гестапо считалось всеведущей и способной на любое злодеяние службой, что объяснялось, во-первых, политическим климатом, в котором критика правительства уже считалась достаточным основанием для ареста, и, во-вторых, готовностью простых немцев не только следовать линии партии и добровольно вовлекаться в гляйхшальтунг, но и из корыстных соображений доносить на сограждан, якобы «задевающих чувства» нацистов. В ходе одного исследования нацистских архивов было установлено, что из 213 изученных доносов 37 % были продиктованы не искренними политическими убеждениями, а банальными конфликтами доносчиков с их жертвами[214]. Так, в октябре 1933 г. продавец бакалейной лавки донес на скандальную покупательницу, упорно требовавшую сдачу в три пфеннига[215]. Он обвинил ее в том, что она не платит налоги. Немцы поливали друг друга грязью с таким наслаждением, что нацистское руководство даже призывало их более внимательно относиться к основаниям для обращения в полицию. Сам Гитлер говорил министру юстиции: «Мы тонем в море доносов и человеческой подлости»[216].
Одной из главных составляющих гляйхшальтунга была «арийская поправка» к законам, касающимся гражданской государственной службы, по сути запрещавшая евреям занимать какие-либо должности в органах власти. Новое законодательство и враждебное отношение немцев к евреям серьезно ограничивали возможности последних заниматься врачебной и адвокатской практикой. Эти ограничения были весьма обременительны и резко меняли жизнь евреев, но туристы и другие сторонние наблюдатели их не замечали – в том числе потому, что в Германии проживало не так уж много евреев. По состоянию на январь 1933 г. их доля в общей численности населения страны (65 млн человек) составляла лишь около 1 %, причем большинство евреев проживали в крупных городах; в других районах страны их почти не было[217]. При этом около трети немецких евреев (чуть больше 160 000 человек) жили в Берлине, но их доля в общей численности населения столицы (4,2 млн человек) не превышала 4 %. К тому же они, как правило, проживали компактно, в районах, обычно не включавшихся в путеводители для туристов.
Но и многие немецкие евреи не сознавали истинного смысла происходящего. Лишь 50 000 человек поняли его вовремя – и уехали из Германии в первые же недели после назначения Гитлера канцлером[218]. Большинство осталось. «Мало кто думал, что угрозы в адрес евреев следует воспринимать всерьез, – отмечал Карл Цукмайер, немецкий писатель еврейского происхождения. – Даже многие евреи считали безумные антисемитские разглагольствования нацистов не более чем пропагандистским трюком, от которого нацисты откажутся, как только получат власть в стране, как только общество даст им официальные полномочия»[219]. И хотя одна из популярных у штурмовиков песенок называлась «Когда мой нож еврейской кровью обагрится», ко времени прибытия Доддов в Германию гонения на евреев начали понемногу ослабевать. Нападения на них теперь происходили сравнительно редко, их можно было считать единичными. «Нетрудно было поверить, что все наладилось, – писал историк Джон Диппель, пытаясь ответить на вопрос, почему многие евреи в 1930-х гг. решили остаться в Германии. – На первый взгляд могло показаться, что повседневная жизнь во многом осталась прежней, такой же, как до прихода Гитлера к власти. Нападения нацистов на евреев были как летние грозы, когда тучи внезапно сгущаются и так же быстро рассеиваются, оставляя после себя странное, зловещее спокойствие»[220].
Наиболее заметным результатом гляйхшальтунга стало быстрое распространение пресловутого гитлеровского приветствия (Hitlergruss). Для иностранцев оно тогда было в новинку; генеральный консул Мессерсмит даже посвятил ему отдельную депешу (от 8 августа 1933 г.). У этого жеста, писал он, нет аналогов в современности, если не считать узкопрофессиональных обычаев – например, в армии младшие по званию при встрече обязаны отдавать честь старшим по званию[221]. Новую традицию следовало считать уникальной, поскольку салютовать должны были все и всем при каждой встрече. Лавочники приветствовали салютом покупателей. Дети должны были салютовать учителям – по несколько раз в день. Новая традиция требовала, чтобы в театре после спектакля зрители вставали, вскидывали руку в нацистском приветствии и хором пели сначала гимн Германии «Германия превыше всего», а затем гимн штурмовых отрядов «Песня Хорста Весселя», названный по имени автора, громилы-штурмовика, убитого коммунистами и впоследствии превращенного нацистской пропагандой в героя. Граждане Германии с такой готовностью приняли новое приветствие, что непрестанное вскидывание руки выглядело почти комично, особенно в коридорах государственных учреждений, где все, от скромного курьера до самого высокопоставленного чиновника, салютовали друг другу, восклицая «Хайль!», из-за чего даже посещение мужского туалета превращалось в долгую и утомительную процедуру.
Мессерсмит отказывался салютовать и в случае необходимости просто вытягивался по стойке «смирно». Он понимал, что простым немцам этого бы не простили. Иногда и он ощущал явное недовольство его поведением. Так, по окончании одного делового завтрака в портовом городе Киле все присутствовавшие встали и, вскинув правую руку, хором запели сначала государственный гимн, а затем «Песню Хорста Весселя». Мессерсмит тоже встал – из уважения к немцам; точно так же он поступил бы в Америке при звуках «Звездно-полосатого флага». Многие другие приглашенные, в том числе несколько штурмовиков, недовольно косились на него и перешептывались, словно пытаясь угадать, кто он такой. «Я понимал, что мне еще повезло – завтрак проходил в помещении, и большинство присутствовавших были вполне разумными людьми, – писал он, – но, если бы дело было на уличном собрании или демонстрации, никто не стал бы задаваться вопросом, кто я такой, и со мной, скорее всего, обошлись бы очень сурово»[222]. Мессерсмит рекомендовал американским туристам вести себя осмотрительно и в случае необходимости присутствия на мероприятии, предполагающем хоровое пение и вскидывание руки в нацистском приветствии, советовал уходить пораньше.
Когда Додд время от времени в шутку приветствовал его вскидыванием руки, он не находил в этом ничего забавного[223].
•••
Уже на второй неделе пребывания в Берлине Марта поняла, что ее надежды забыть прошлое оказались напрасными, – оно напомнило о себе.
Ее муж Бассет приехал в столицу Германии в надежде вернуть Марту. Он называл эту попытку «берлинской экспедицией».
Бассет поселился в отеле «Адлон». Муж и жена несколько раз виделись, но Бассет не добился возобновления отношений, слез примирения и всего того, на что так надеялся. Со стороны Марты он встретил лишь доброжелательное равнодушие. «Ты наверняка помнишь, как мы катались на велосипедах по парку, – писал он ей позже. – Ты была приветлива, но я чувствовал, что нас многое разделяет»[224].
К тому же незадолго до отъезда Бассет серьезно простудился и слег в постель – как раз когда Марта собиралась в последний раз навестить его перед отъездом.
Едва Марта вошла в комнату, он понял, что «берлинская экспедиция» провалилась. Его жена привела с собой брата Билла.
По сути, это было жестоко. Марта знала, что Бассет правильно интерпретирует этот поступок. Она устала. Когда-то она любила его, но их отношениям мешали непонимание и отсутствие общих интересов. На месте любовного костра остались лишь «тлеющие угольки», как Марта выразилась позже, и их было слишком мало, чтобы заново разжечь огонь страсти.
Бассет все понял. «Ты решила, что с тебя хватит, – вскоре написал он ей. – И никто не сможет тебя упрекнуть!»[225]
Он послал ей цветы, признав поражение. К букету приложил открытку. Текст начинался фразой: «Моей очаровательной и прелестной бывшей жене»[226].
Он уехал в Америку, в Ларчмонт (штат Нью-Йорк), и с головой ушел в жизнь в пригороде, состоящую из подстригания газона, ухаживания за темно-пунцовым буком, росшим на заднем дворе, вечерних возлияний и импровизированных пирушек. Утром – на поезде в банк, на работу. Вечером – домой. Позже он писал ей: «Я совсем не уверен, что ты была бы счастлива в роли жены банковского экономиста, вынужденной заниматься финансовыми отчетами, воспитанием кучи детей, делами родительского комитета и всем прочим в этом роде»[227].
•••
Дружба Марты с Зигрид Шульц вскоре начала приносить плоды. Так, 23 июля 1933 г. Зигрид устроила вечеринку в честь приезда Марты. Она пригласила несколько ближайших друзей, в том числе корреспондента Hearst News Service Квентина Рейнольдса. Марта и Рейнольдс сразу понравились друг другу. Это был огромного роста, жизнерадостный мужчина. У него были курчавые волосы, а взгляд такой, что, казалось, он вот-вот рассмеется, хотя на самом деле корреспондент имел репутацию человека здравомыслящего, практичного, умного и настроенного скептически.
Пять дней спустя они встретились снова, в баре отеля «Эспланада». Присутствовал и брат Марты Билл. Как и Зигрид, Рейнольдс всех знал и сумел подружиться с несколькими видными нацистскими чиновниками, в том числе конфидентом Гитлера с труднопроизносимым именем – Эрнстом Францем Седжвиком Ханфштанглем. Про того было известно, что иногда этот выпускник Гарварда[228] (его мать была уроженкой США) по вечерам играет для Гитлера на пианино, чтобы успокоить нервы диктатора. Исполнял он не Моцарта и не Баха, а главным образом Вагнера и Верди, Листа и Грига, иногда – Штрауса и Шопена.
Марте захотелось с ним познакомиться. Рейнольдс знал, что один из его собратьев-корреспондентов устраивает вечеринку, на которую ожидают и Ханфштангля. Корреспондент предложил девушке пойти с ним.
Глава 7
Назревающий конфликт
Каждое утро Додд пешком отправлялся из отеля «Эспланада» на службу. Путь по Тиргартенштрассе – улице вдоль южной границы парка – занимал 15 минут. На южной стороне высились утопающие в зелени особняки за коваными оградами; во многих из них располагались посольства и консульства. На северной стороне раскинулся парк с его деревьями, статуями и дорожками, на которых лежали голубые утренние тени. Додд называл его «самым красивым парком из всех, какие ему доводилось видеть», и эта прогулка вскоре стала любимой частью распорядка дня посла[229]. Рабочий кабинет Додда располагался в здании канцелярии посольства, на Бендлерштрассе, совсем рядом с парком. На этой же улице располагался «Бендлер-блок» – группа приземистых, бесцветных зданий в форме параллелепипедов. Это были штабные здания регулярной армии Германии, рейхсвера.
На фотографии, на которой Додд запечатлен в своем рабочем кабинете (шла первая или вторая неделя его пребывания в Берлине), посол сидит за большим, украшенным искусной резьбой столом. За спиной виден огромный гобелен, по левую руку на расстоянии примерно полутора метров на столе громоздится большой телефонный аппарат сложной конструкции. Фотография немного смешная: человек хрупкого телосложения, в рубашке с жестким белым воротничком, с набриолиненными волосами и аккуратным пробором сурово смотрит в объектив, но совершенно теряется на фоне окружающей его роскоши. Снимок здорово повеселил сотрудников Госдепартамента, не одобрявших назначение Додда. Заместитель госсекретаря Филлипс так завершал одно из писем Додду: «Фотография, на которой вы сидите за рабочим столом на фоне роскошного гобелена, разошлась здесь довольно широко и произвела сильное впечатление»[230].
Казалось, Додд на каждом шагу нарушает традиции посольства, – во всяком случае, так считал советник Джордж Гордон. Так, посол твердо решил ходить на встречи с правительственными чиновниками и другими официальными лицами пешком. Однажды, отправляясь в расположенное поблизости испанское посольство, он взял с собой Гордона. Оба дипломата облачились в визитки и шелковые цилиндры. Вспоминая этот эпизод в письме Торнтону Уайлдеру, Марта писала: когда Гордон узнал, что придется идти пешком, его «едва не хватил удар»[231]. Если Додд отправлялся куда-нибудь на автомобиле, он сам садился за руль семейного «шевроле», не шедшего ни в какое сравнение с «опелями» и «мерседесами», на которых предпочитала разъезжать верхушка Рейха. Додд носил простые костюмы. Отпускал едкие шуточки. А 24 июля, в понедельник, допустил почти непростительную оплошность. Генконсул Мессерсмит пригласил его (и Гордона) на встречу с одним американским конгрессменом, прибывшим с визитом в Германию. Встреча была назначена в офисе Мессерсмита, занимавшем два нижних этажа консульства, здание которого располагалось напротив отеля «Эспланада». Когда Додд пришел, Гордона еще не было. Через несколько минут зазвонил телефон. Мессерсмит взял трубку. Из его слов Додд понял, что советник категорически отказывается прийти. Причина была проста – уязвленное самолюбие. По мнению советника, Додд «ронял себя» и престиж занимаемого им поста, участвуя во встрече в офисе чиновника более низкого ранга. Позже Додд отметил в дневнике: «Гордон – законченный карьерист, чрезвычайно щепетильный и пунктуальный»[232].
Додд не смог сразу вручить свои верительные грамоты президенту Гинденбургу, как того требовал дипломатический протокол. Гинденбургу нездоровилось, и он удалился в свое поместье в Нойдеке в Восточной Пруссии, чтобы немного подлечиться; предполагалось, что он не вернется в столицу до конца лета. Соответственно, Додд еще не получил аккредитации. Он воспользовался этим периодом спокойствия, чтобы ознакомиться с такими важными вещами, как особенности работы посольских телефонов, график отправки мешков с дипломатической почтой и посольские шифры. Он встретился с группой американских корреспондентов, а также двумя десятками немецких репортеров, которые, как он и опасался, уже прочли заметку в еврейской Das Hamburger Israelitisches Familienblatt, где утверждалось, что он «приехал в Германию, чтобы пресечь несправедливость в отношении евреев»[233]. Додд выступил перед ними с «кратким опровержением», как он это назвал, данного сообщения.
Додд довольно быстро понял, каково это – жить в новой Германии. В первый же день его пребывания в Берлине гитлеровское правительство объявило, что с 1 января 1934 г. вступает в силу закон, направленный на предотвращение появления на свет детей с наследственными заболеваниями; граждан с физическими недостатками и психическими отклонениями предполагалось стерилизовать[234]. Вскоре посол узнал, что сотрудники посольства и возглавляемого Мессерсмитом консульства уверены: немецкие власти перехватывают входящую и исходящую дипломатическую корреспонденцию[235]. Чтобы гарантировать доставку наиболее деликатных посланий в Америку нераспечатанными, Мессерсмит был вынужден пускаться на фантастические ухищрения[236]. Генконсул велел курьерам передавать такие письма капитанам судов, отправлявшихся в США. По другую сторону Атлантики капитанов на причале встречали специальные агенты американских федеральных ведомств.
•••
Одной из первых задач, которые поставил перед собой Додд, была оценка сильных и слабых сторон подчиненных – как дипломатов (первых и вторых секретарей посольства), так и клерков, стенографисток и других технических работников канцелярии. Он сразу увидел, что трудовая дисциплина сильно хромает. Секретари приходили на службу когда вздумается и уходили, когда хотели поохотиться или поиграть в гольф. Он узнал, что почти все они члены гольф-клуба, расположенного в Ванзе, районе на юго-западе центрального района Берлина. Многие из них располагали немалыми средствами (что отвечало традициям американского дипкорпуса) и швырялись деньгами – как своими, так и посольскими – направо и налево. Новый посол пришел в ужас, узнав, сколько денег тратится на международные телеграммы. Послания были длинными и путаными, а значит, неоправданно дорогими.
В заметках к отчету о работе посольства Додд кратко охарактеризовал ключевых сотрудников[237]. Он указал, что супруга советника Гордона получает «солидный доход» и что тот часто ведет себя слишком независимо. «Человек он эмоциональный. Чересчур враждебно относится к немцам ‹…› Много раз допускал досадные вспышки раздражения». Набрасывая портрет одного из первых секретарей, тоже человека состоятельного, Додд написал, что тот «обожает рассуждать о цвете носков». Кроме того, посол отметил, что Джулия Левин – дама, руководившая посольской приемной, – не подходит для выполнения подобных обязанностей, поскольку «настроена крайне антигермански», а это «не очень хорошо, ведь в посольство приходят немцы».
Додд также обрисовал политический пейзаж за стенами посольства. Под ярко-голубым летним небом словно оживали депеши Мессерсмита. Город был увешан яркими полотнищами с броской символикой: белый круг на красном фоне, в центре круга – жирный черный «ломаный крест» (Hakenkreuz). (В посольстве пока предпочитали не употреблять слово «свастика».) Додд выяснил, о чем говорят цвета формы на людях, которых он встречал во время прогулок. В коричневую форму облачались штурмовики СА; казалось, они повсюду; в черную – представители элитных «отрядов охраны», или СС (Schutzstaffel, SS); этих было меньше, и встречались они реже; в голубую – обычные полицейские. Додд узнал о растущем влиянии гестапо и молодого шефа этой организации – Рудольфа Дильса. Это был подвижный темноволосый человек, считавшийся привлекательным, несмотря на множество шрамов на лице: еще будучи студентом университета, он участвовал в дуэли на холодном оружии (такие дуэли когда-то были в моде у юных немцев, стремившихся доказать свою мужественность). Он выглядел мрачным, как злодей в третьеразрядном фильме, но, по словам Мессерсмита, был человеком по-своему цельным, дельным и рациональным, в отличие от его начальников, Гитлера, Геринга и Геббельса.
Во многих других отношениях новый, только открывающийся Додду мир тоже оказался не таким простым и лишенным оттенков, как он предполагал.
Гитлеровское правительство было расколото. Гитлер занимал пост канцлера с 30 января 1933 г. Президент Гинденбург назначил его на эту должность, выполняя одно из условий договоренности с влиятельными консерваторами, полагавшими, что смогут контролировать нового канцлера. Однако уже к моменту прибытия Додда стало ясно, что они серьезно заблуждались. Гинденбург, которого называли Старый господин, оставался единственным противовесом Гитлеру. За несколько дней до отбытия Додда в Германию он публично заявил о своем недовольстве нападками Гитлера на протестантскую церковь. В открытом письме канцлер назвал себя «евангельским христианином» и выразил растущую «тревогу за внутреннюю свободу церкви», отмечая, что, если взятый курс будет продолжен, «это нанесет самый серьезный ущерб нашему народу и нашему отечеству, а кроме того, подорвет национальное единство»[238]. Гинденбург не только обладал конституционными полномочиями, позволявшими ему назначать и смещать канцлера, но и пользовался популярностью в регулярной армии – рейхсвере. Гитлер понимал: если страна снова начнет погружаться в хаос, Гинденбург может распустить правительство и ввести военное положение. Он также сознавал, что наиболее вероятным источником возможной нестабильности является СА – служба, возглавляемая капитаном Эрнстом Рёмом, его другом и давним союзником[239]. Гитлер все яснее видел, что СА – недисциплинированная, радикально настроенная сила, исчерпавшая свою полезность. Рём считал иначе: он и его штурмовые отряды сыграли решающую роль в национал-социалистической революции и теперь в качестве награды хотели контролировать все вооруженные силы, в том числе рейхсвер. Военные были категорически против. У толстого, угрюмого развратника (по слухам, гомосексуалиста) Рёма не было офицерской выправки, столь ценимой в армии[240]. Тем не менее он командовал быстро растущим легионом штурмовиков, численность которого уже перевалила за 1 млн человек. Численность личного состава регулярной армии была в десять раз меньше, однако рейхсвер был гораздо лучше подготовлен и вооружен. Назревал конфликт.
По мнению Додда, некоторые представители власти начали задумываться об изменении курса и более умеренной – во всяком случае, по сравнению с курсом Гитлера, Геринга и Геббельса, которых посол называл «мальчишками, решившими поиграть в борьбу за мировое господство», – политике[241]. Основанием для оптимизма Додд считал настроения представителей среднего звена государственного управления, работающих в министерствах. «Министры хотели бы прекратить преследование евреев и начать сотрудничать с последними приверженцами принципов немецкого либерализма, – писал он. – Борьбу между этими двумя лагерями я наблюдаю со дня прибытия в Германию»[242].
