Криминальное средневековье
Text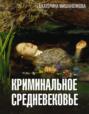


Zum Hörbuch
- Größe: 410 S.
- Kategorie: Geschichte des Mittelalters, Geschichte, beliebt
Подробнее почитать об этих незаурядных дамах можно у Григория Турского в «Истории франков», а также в анонимной хронике VIII века под названием «Книга истории франков». В какой-то степени их вражда легла в основу противостояния Брунгильды и Кримгильды в «Песни о Нибелунгах».
Варварские королевства
Разумеется, на территориях разных варварских королевств, возникших после падения Римской империи (а иногда и до этого), везде были свои особенности. Например, свой достаточно интересный кодекс законов выработали вестготы, чье королевство в лучшие времена, а именно в V–VI веках, охватывало территорию Аквитании и почти весь Пиренейский полуостров.
Их законодательство опиралось на римское право, в частности на Кодекс Феодосия и некоторые другие более поздние юридические тексты. В конце VI века король Леовигильд провел реформу, добавив в законодательство много элементов германского и собственного традиционного вестготского права, плюс в вестготских законах всегда было очень заметно влияние христианства. Но после вторжения на Пиренейский полуостров мавров вестготскому королевству за несколько десятилетий пришел конец.

Король франков дарует народу Салическую правду. Миниатюра «Хроники Сен-Дени». XIV век
Лангобарды – германское племя, пришедшее в итальянские земли с севера Европы, – основали Королевство лангобардов, которое на пике своего могущества охватывало почти весь Апеннинский полуостров.
У лангобардов власть безоговорочно принадлежала военной знати – вожди кланов, получившие титулы герцогов, обладали одновременно военной, гражданской и юридической властью и подчинялись королю довольно условно. В середине VII века король Ротари озаботился тем, чтобы наконец записать законы и унифицировать законодательство по всей стране. Был составлен Эдикт Ротари (на латыни, конечно), в первую очередь опирающийся на традиционное германское право с небольшим влиянием римского. За большинство преступлений полагался штраф, хотя для политических делалось исключение – за покушение на короля, дезертирство или укрывательство шпионов могли и казнить. Женщины считались собственностью мужчин. При разбирательстве дел для доказательства правоты одной из сторон разрешался поединок.

Святая Кунигунда Люксембургская идет по раскаленным лемехам, доказывая свою невиновность. Миниатюра. XII век
Интересной особенностью лангобардского права было то, что в отличие от римского, где за удавшееся и неудавшееся преступление полагалось одинаковое наказание, лангобарды учитывали – подсудимый только готовился совершить преступление, сделал неудачную попытку или успешно его совершил. В этих трех случаях полагались наказания с разной степенью тяжести.
В VIII веке лангобардские короли перешли из арианской ереси[19] в католичество, и вслед за этим законодательство испытало сильное влияние церкви и римского права. Улучшилось положение женщин, появилась возможность завещать часть имущества по своему желанию, появилось право убежища в церкви. Стали больше внимания уделять показаниям свидетелей. Судебные поединки были объявлены ненадежными, хотя полностью запретить их королю не удалось, слишком уж эта традиция была популярна у широких слоев населения. Появилось право подавать апелляцию королю, а неправедных судей стали наказывать, если удавалось доказать их вину.
В 774 году королевство лангобардов было завоевано королем франков Карлом Великим, но наследие лангобардского права не исчезло, прежние указы остались в силе и оказывали влияние на юридическую практику вплоть до XII века, а в некоторых местах и дольше.
Салическая правда
Салической правде – своду обычного права племени салических франков – суждено было стать самым известным из всех варварских законов. Хотя, конечно, дело тут не только в том, что это действительно одна из самых ранних и подробных варварских правд, к тому же еще и сохранившаяся в многочисленных списках. Широким слоям населения она в основном запоминается из-за того, что уже в XIV веке, когда во Франции пресеклась династия Капетингов, с Салической правды стряхнули нафталин и вытащили ее на свет божий, чтобы как-то обосновать переход престола не к родной сестре покойного короля Изабелле, а к его кузену Филиппу. Поскольку действующие к тому времени во Франции законы никак не запрещали женщинам наследовать престол, пришлось откопать таковой в древнем варварском праве.
Первая известная версия Салической правды была создана в начале VI века при короле Хлодвиге I, отце того самого женолюбивого Хлотаря, хотя, конечно, опиралась на древние и в основном неписаные законы и традиции франков. Текст был написан на варварской латыни и состоял из 65 глав (титулов), содержавших преимущественно перечисление штрафов за правонарушения и изложение различных процессуальных процедур, а также регулировал семейные, наследственные, обязательственные отношения и т. д.
Грубо говоря, это был просто каталог штрафов, положенных за те или иные правонарушения. Потом ее дополняли разными новыми королевскими законами, а в начале IX века, при Карле Великом, основательно переработали, и новая версия получила название Karolina.
Это был любопытный период: империя Карла Великого включала в себя многочисленные земли, на которых действовали разные законы, и он не стал это менять, только подкорректировал своими капитуляриями. Для франков продолжал действовать салический закон, для Италийского королевства – лангобардский, где-то сохранялось верховенство римского права, где-то баварские законы, саксонские и т. д.
Но вскоре каролингская империя распалась, и Салическая правда, а также ее производные, утратили свое прежнее значение. Новые времена требовали новых законов, отражающих особенности складывающейся феодальной системы.
Англосаксонское право
В римской Британии действовало, разумеется, римское право, хоть и с налетом местных особенностей. Но в V веке последние легионы покинули остров, а к началу VII века Британию уже завоевали германские племена англов и саксов. Они основали там свои королевства со своими собственными законами, а римское право было практически позабыто. Первоначально существовало семь англосаксонских королевств[20], потом некоторые из них усилились и подчинили себе других, и их стало четыре, а в IX веке они окончательно объединились в единое государство под властью Уэссекса.
Уже в VI веке на остров было принесено христианство – это была заслуга святого Августина Кентерберийского, действовавшего под покровительством папы Григория I.

Ордалия. Испытания водой. Миниатюра. XIII век
Старейший англосаксонский свод законов восходит как раз к первому христианскому королю – Этельберту Кентскому. Он был составлен в 602–603 годах, и в нем заметно влияние церкви – по крайней мере в первой же главе предписывается возмещение ущерба виновным в краже имущества, принадлежащего епископам и священнослужителям. Ну и, собственно, все остальные девять десятков глав посвящены типичным для германского права штрафам за преступления и правонарушения. Кстати, интересно, что англосаксонские юридические тексты в основном написаны на древнеанглийском языке[21], а не на латыни, как в континентальных варварских королевствах.

Ордалия. Испытание раскаленным железом. Миниатюра. XIII век
Постепенно письменные сборники законов начали составлять правители всех четырех королевств – по мере укрепления их власти. Наши знания о них до сих пор очень фрагментарные, но ясно, что они создавались на основе существующих обычаев, с дополнениями по мере усложнения общественного устройства, а после принятия христианства часто были направлены не только против преступности, но и на обеспечение послушания церкви и увеличение ее богатства. В свою очередь, церковь поддерживала королевскую власть и придавала ей религиозный ореол.
Правда, у королей в то время практически не было профессионалов на местах, и им приходилось полагаться на крупных землевладельцев, которым они предоставляли широкие полномочия по поддержанию правопорядка.
Вергельд и вите
В 689–694 годах король Уэссекса Ине (688–726) издал «Правду Ине» – третий из известных англосаксонских сводов законов, ценный в числе прочего тем, что он опирался не только на архаичное германское право. Это была первая в Британии серьезная попытка свести воедино в одном кодексе древние обычаи (привычные народу) и новые законы (отвечающие современным веяниям, а также целям короля и церкви).
В частности, в «Правде Ине» не поощрялась традиционная для германских племен кровная месть, и пострадавшим предписывалось соглашаться на материальную компенсацию за убитого родича, слугу или раба. Причем во избежание споров и злоупотреблений королевским указом вводились фиксированные «тарифы» в зависимости от социального положения убитого. Эта практика оказалась такой удобной, что очень быстро распространилась по всем англосаксонским королевствам, хотя «тарифы» в разных местах были разные. Да и вообще это был, по-видимому, естественный ход развития германского права – через периоды таких «штрафов» за убийство прошли многие страны. Как только начинала усиливаться центральная власть и формировался феодализм, короли тут же старались избавиться от остатков обычаев кровной мести и заменить их материальным возмещением.
Надо отметить, что вергельд – так называлась компенсация, выплачиваемая семье убитого, – был платой за кровь, вне зависимости от того, было это преднамеренное убийство или несчастный случай. Для закона того времени мотивы и причины не имели значения, штраф был наказанием за вычеркивание человека из рядов живых людей. Со временем кроме вергельда появился еще штраф в пользу короны – вите[22], ставший одной из важных основ королевского богатства и власти.
Но даже и без вите для королей было очень важно избавиться от пережитков кровной мести. Основная причина – в важной тонкости, которую почему-то часто опускают, объясняя германские традиции компенсации за пролитую кровь либо кровью, либо деньгами. Короли не зря вводили сложные системы «тарифов» в зависимости от социального статуса убитого. По сути, эти «тарифы» существовали и раньше, только расплата была не деньгами, а смертями. Если тэн[23] был убит керлом, в уплату за его смерть было недостаточно просто убить этого керла – родственники покойного тэна потребовали бы смерти шести керлов. Фактически все решалось просто и удобно только в одной ситуации – когда убитый и убийца были равны, и убийца был точно известен. Во всех остальных случаях ситуация всегда грозила выйти из-под контроля и превратиться в бойню, а иногда и в маленькую гражданскую войну. В этих условиях фиксированный штраф был самым надежным способом сохранения порядка.
Постепенно, с укреплением королевской власти, появились и преступления, которые стали считаться опасными для короны и караться смертной казнью, увечьями и продажей в рабство. Сначала это были измена, убийство людей на королевской службе и т. п., но постепенно эта практика стала вытеснять вергельд и распространилась на большинство серьезных преступлений. Поздние англосаксонские законы полны такими наказаниями, как повешение, обезглавливание, сожжение, утопление, сдирание кожи, клеймение, отрубание рук, ног и языка, вырывание глаз, отрезание носа, ушей и верхней губы, кастрация, сдирание скальпа и т. д. За более мелкие проступки использовались позорный столб и колодки, а также окунание в воду – впрочем, эти наказания тоже иногда заканчивались гибелью осужденного.
Хотя здесь надо оговориться, что раннесредневековые законы были особо строги к рабам, крестьянам и женщинам, а тэн и тем более эрл практически за любое преступление, кроме разве что государственной измены, вполне мог по-прежнему отделаться штрафом, разделенным между церковью, королем и семьей пострадавшего от его руки.
Англосаксонские суды
При всем этом надо понимать, что какими бы странными или жестокими законы ни были на современный взгляд, система правосудия работала достаточно четко. Даже в эпоху раннего Средневековья нельзя было просто голословно назвать соседа преступником и убить его или потребовать с него выкуп. Требовалось, чтобы виновным его объявил суд.

Дирк Баутс. Правосудие Императора Оттона. Ордалия раскаленным железом. 1447–1448
Англия уже тогда делилась на графства, большинство из которых сохранились до сих пор. Называлось такое графство – «шир». Отсюда и все эти названия – Йоркшир, Девоншир, Ланкашир и т. д.
Графства делились на «сотни» – изначально сотней называлась территория, равная ста «гайдам», а под гайдой подразумевался земельный участок, обрабатываемый одним керлом. Площадь гайды в разных графствах была разной – от 40 до 120 акров, причем под акром подразумевался кусок земли, который можно вспахать за день на восьми быках. В общем, унифицировать довольно сложно, но англосаксы этим и не заморачивались. Главное – существовали гайды, которые были и единицами налогообложения, и административными единицами, обязанными выставлять королю определенное количество ополченцев. Что-то вроде «дворов», знакомых нам по отечественной истории.
Сто гайд соответственно образовывали сотню[24], которая служила важнейшей административной единицей, фактически обеспечивавшей в англосаксонской Англии местное самоуправление. Каждые четыре недели собиралось что-то вроде народного собрания сотни, иногда под председательством королевского представителя, который следил за соблюдением закона. На этом собрании решались административные и налоговые вопросы, а также обсуждались взаимоотношения сотни с королем и церковью. А кроме того, они вершили суд.
Это была настолько устоявшаяся и качественно работающая система, что, когда северные графства были захвачены викингами и там было установлено датское право, собрания сотен продолжили собираться, просто под другим названием.
Возможностей привлечь преступника к ответственности, если он не был пойман на месте преступления, у суда сотни не было. Но у него было право объявить человека вне закона! То есть, если преступника видели, его ловили, а если не поймают – приговаривали заочно. Если был подозреваемый, его вызывали в суд, и если он трижды не явится, то его тоже заочно объявляли виновным. Смысл этого в том, что человека, объявленного вне закона, любой мог убить без каких-либо последствий для себя. Так что преступник фактически отторгался общиной – он лишался семьи, имущества и всякой защиты.
Самые же серьезные дела передавались в суд графства, который часто возглавлялся местным епископом (а потом был под сильным влиянием канонического права) и собирался два раза в год.
Раннесредневековое следствие
Расследования как такового в англосаксонских королевствах, да и в других государствах раннего Средневековья, не проводили – суд не занимался поиском улик или свидетелей, а досудебного следствия не существовало в принципе. Хотя, конечно, и потерпевшие, и обвиняемые нередко пытались разобраться в случившемся. Просто делали они это в частном порядке и на суде самостоятельно предъявляли улики, свидетелей и прочие доказательства, никакой официальной помощи в этом им не предоставлялось.
Суду по большому счету требовался только обвиняемый. Но это не значит, что раннесредневековое правосудие попросту хватало кого попало, лишь бы кого-то казнить. Просто мыслили в те времена по-другому.
Во-первых, само преступление как таковое мало кого интересовало – я уже упоминала, что перед лицом закона не было разницы между преднамеренным убийством и несчастным случаем, важен был только сам факт насильственной смерти, которую следовало искупить или оплатить. Убийца нес ответственность в основном только перед родом, семьей или кланом убитого. Смерть чужака, за которого некому было потребовать справедливости, могли вообще никак не расследовать.
Разумеется, так было не всегда – бывало, что обвинение выдвигалось от имени короля, то есть фактически – государства. Но это долго оставалось скорее исключением, чем правилом и касалось лишь особо важных случаев, когда королевские представители на местах решали, что затронута безопасность или репутация монарха и его власти.
Во-вторых, улики имели значение, но определяющей роли не играли. У англосаксов, так же как и у германцев, вопрос вины и невиновности был в первую очередь в компетенции Бога. Если обвиняемый мог поклясться в своей невиновности и привести достаточное количество свидетелей, которые в свою очередь готовы были поручиться под присягой за его порядочность и благонадежность, это считалось убедительным доказательством его невиновности.
Не стоит недооценивать эту систему. Конечно, в наше время она не могла бы работать, но в Средние века, когда почти 100 % населения искренне верили в Бога, очень мало кто решился бы на ложную клятву. И если сам обвиняемый из страха перед смертью мог рискнуть бессмертием души, то поручители обычно должны были быть абсолютно уверены в его порядочности. Если во время суда у них возникали сомнения, они вполне могли отказаться от своего поручительства. К тому же таких свидетелей нужно было не один и не два – в зависимости от местности и тяжести обвинения подсудимому требовалось привести до 36 поручителей. И здесь на человека (или против него) работала репутация, приобретенная им за всю его жизнь. А в наиболее уязвимом положении опять же находился чужак, то есть человек, которого в данной местности никто не знал.
Но и для тех, за кого некому было вступиться, не все было потеряно. Потому что решать, кто виновен, а кто нет, должен был Бог.
Божий суд
Как ни странно, в раннесредневековой Англии не были приняты характерные для германского права судебные поединки. В тех случаях, когда дело доходило до Божьего суда, прибегали к ордалиям, то есть испытаниям водой, огнем, железом и т. п.
При этом ордалии бывали не только односторонние – когда обвиняемый приносил клятву в своей невиновности и проходил назначенное испытание. Бывали и двусторонние – когда у суда было только слово истца против слова ответчика, и тогда ордалия назначалась им обоим. Но и в этом случае они не скрещивали оружие, а просто оба проходили одно и то же испытание. Судебные поединки в Англию пришли, по-видимому, только в XI веке, вместе с нормандцами.
Среди самых распространенных ордалий было испытание горячей водой – требовалось достать камень из кипящего котла. Испытание раскаленным железом – когда надо было взять в руку раскаленный брусок металла. Испытание водой – обвиняемого бросали в освященный пруд, и, если он не тонул, значит, признавался виновным, поскольку считалось, что святая вода не примет нечестивца. Испытание раскаленными лемехами – обвиняемому требовалось пройти босиком по девяти (иногда по четырнадцати) раскаленным лемехам.
Кстати, если верить легендам, это испытание благополучно прошли обвиненные в супружеской неверности такие царственные особы, как святая Рихарда Швабская – жена франкского императора Карла Толстого (839–888), святая Кунигунда Люксембургская – жена императора Священной Римской империи Генриха II (973–1024) и Эмма Нормандская – жена английских королей Этельреда Неразумного (968–1016) и Кнуда Великого (994–1035). Так что популярна эта ордалия явно была не только в Англии.
Были и менее травматичные ордалии – например, истцу и ответчику следовало встать в позу распятого Христа, и, кто первый опустит руки, тот и проиграл. Но это испытание просуществовало недолго, его отменили, потому что оно вызывало слишком много веселья у зрителей.
Хлебная ордалия
Интересно, что духовным лицам полагалась своя ордалия – надо было съесть освященный кусок сухого хлеба или сыра. Если подавишься – значит виновен. Эта традиция была закреплена на Вормсском синоде 868 года, где такая ордалия рекомендовалась конкретно для лиц духовного звания. Выглядит она обманчиво просто, но у некоторых исследователей я встречала упоминания, что в этот кусок хлеба или сыра вставлялось перо, по-видимому, чтобы его невозможно было разжевать, и приходилось глотать.

Святая Радегунда уходит в монастырь. Миниатюра. XI век
Впрочем, клятву на хлебе приносили не только духовные лица. Сохранилась легенда о том, как Годвин Уэссекский, отец будущего последнего англосаксонского короля Гарольда II, считавшийся виновным в смерти брата царствующего тогда короля Эдуарда Исповедника (1003–1066), на пиру в 1053 году заявил: «Пусть этот кусок хлеба, который я держу в руке, пройдет через мое горло и оставит меня невредимым, чтобы показать, что я был невиновен в измене по отношению к вам и что я невиновен в смерти вашего брата!» Потом он проглотил этот кусок, подавился и умер. Правда, появилась эта история впервые только в работе святого Элреда Ривоского, то есть примерно через сто лет, а в «Англосаксонской хронике»[25] за 1053 год было записано просто: «В пасхальный понедельник, когда он сидел с королем за трапезой, он внезапно опустился на скамеечку для ног, потеряв дар речи и лишившись всей своей силы. Затем его отнесли в личную комнату короля, и все думали, что это вот-вот пройдет. Но это было не так. Напротив, он оставался так без слов и сил вплоть до четверга, а затем ушел из этой жизни». Так что, вероятнее всего, у Годвина был обычный инсульт, а история, изложенная Элредом, – всего лишь нормандская пропаганда с целью дискредитировать род последних англосаксонских королей.
Не могу не сказать несколько слов о святом Элреде Ривоском (1100–1167) – английском хронисте, теологе, дипломате и церковном деятеле. Он был ярым поборником целомудрия, но сейчас считается святым покровителем гомосексуалистов, поскольку исследователь истории однополых отношений Джон Босвел на основе его литературных трудов обосновал, что Элред был латентным гомосексуалистом. Впрочем, большинство медиевистов его не поддержали, указывая на то, что единственный приступ похоти, о котором Элред рассказывает, касался женщины, а все его описания нежной мужской дружбы типичны для монашеской литературы и касаются только духовной сферы. А у самого Босвела репутация в кругах медиевистов весьма неоднозначная, поскольку он все что только можно сводил к гомосексуализму и находил его буквально везде и во всем.
Тут надо опять вспомнить, что даже только раннее Средневековье было очень длинным, а за пять сотен лет в разных странах одно и то же испытание могло принимать самые разнообразные формы. Испытание едой – одно из самых древних, оно носило сакральный характер, считалось, что божество (а с приходом христианства – Бог) превратит пищу в яд, и лжец скончается. А уж гостии[26] в Средние века вообще придавалось огромное сакральное значение – ею лечились от болезней, защищались от злых чар. Ну и, конечно, считалось, что правильная освященная гостия будет ядовита для евреев, еретиков и клятвопреступников. Так что ее активно использовали как в раннем каноническом праве, так и в «народных» методах расследования. Можно предположить, что первоначально для испытания хлебом использовалась именно гостия, а уже потом процедура стала усложняться.
Хотя есть вероятность, что дело было как раз наоборот – церковь, ориентированная в основном на римское право, не смогла справиться с варварской традицией ордалий и в конце концов взяла ее под свое крыло, подвела идеологическую базу, а обычный хлеб заменила гостией. «Нравоучительная литература Средневековья переполнена описаниями впечатляющих результатов, которых якобы удавалось добиться подобными методами, – пишет Зои Лионидас в “Кухне французского Средневековья”. – Так, некий священник, запятнавший себя многими преступлениями, собирался принять причастие, когда невесть откуда появившийся белый голубь (читай – Дух Святой) выбил у него из рук священную гостию и чашу и вместе с ними исчез в никуда. Еще один недостойный священник умудрился проглотить гостию, однако же она вышла наружу из его пупка, “столь же белая и непорочная, словно только что взятая из дарохранительницы”. Хлебная ордалия постепенно вышла из употребления и к концу Средневековой эры превратилась в предмет насмешек для образованного населения».
