Москва. Великие стройки социализма
Text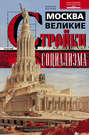


Zum Hörbuch
- Größe: 660 S.
- Kategorie: Architektur, Sachbücher, Allgemeine Geschichte
Год «великого перелома»
Школы, строившиеся в Москве в первой половине 1930-х годов, становились все лучше и лучше. Зодчие получали необходимый опыт, постепенно отказывались от эффектных, но ненужных экспериментов. Одновременно приходил конец и изыскам крикливых экспериментаторов в педагогике.
Наведение окончательного порядка в среднем образовании началось с постановления Центрального комитета ВКП(б) от 5 сентября 1931 года о начальной и средней школе. Этим постановлением средней школе ставилась конкретная задача – дать учащимся твердый объем систематических и осмысленных знаний.
Решение быстро дало первые плоды. К январю 1932 года появились новые программы, ориентированные на изучение тех предметов, которые преподаются в московских школах и сейчас. В школы вернулись уроки по твердому расписанию, систематические опросы, жесткая дисциплина, обязательное использование учебников.
Но Центральный комитет ВКП(б) продолжал держать советскую школу в центре внимания. Чтобы понять это, достаточно перечислить рассмотренные им вопросы и принятые постановления. В августе 1932 года – об учебных программах и режиме в начальных и средних школах, в феврале 1933-го – о роли учебников для средней школы, в 1934-м – сразу три постановления: о структуре начальной и средней школы, о преподавании истории и географии. Наконец, 22 февраля 1935 года Совнарком и ЦК ВКП(б) рассмотрели вопрос об организации школьного обучения в городах и приняли решение о массовом строительстве школьных зданий в городах для прекращения тесноты и многосменности в школах. Этот день с полным основанием может считаться точкой коренного перелома, началом новой истории всех советских, в том числе и московских, школ. С этого времени капитальные учебные здания из разряда чего-то необыкновенного, даже роскошного перешли в число самых привычных, необходимых и гарантированных всем людям вещей.
«В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) рассмотрели вопрос о строительстве школ в городах. СНК СССР и ЦК ВКП(б) установили, что за годы первой и второй пятилеток, в результате роста и укрепления социалистического хозяйства, в первую очередь роста городов и промышленных центров, и введения всеобщего обязательного обучения, количество детей, обучающихся в школах, выросло с 11,3 млн до 24 млн, в том числе в городах с 3 млн 200 тыс. до 5 млн 800 тыс. Количество школ за эти годы увеличилось почти на 50 тысяч – с 118 тыс. до 167 тыс., главным образом в деревне, и общая сумма затрат на школьное строительство составила 1 млрд 100 млн руб.
Однако территориальное размещение школ не совпадало с острыми потребностями городов и рабочих поселков, строительство школ отставало от прироста обучающихся.
Наркомпросы союзных республик, в особенности Наркомпросы РСФСР и УССР, плохо руководили школьным строительством, неправильно расходовали, а иногда не полностью использовали государственные ассигнования на строительство школ, в особенности не обеспечивали новыми школьными зданиями города и промышленные центры.
Новые школьные здания в городах построены неэкономно, при больших затратах на подсобные помещения (мастерские, столовые, залы и т. д.) в ущерб строительству классных комнат для учебных занятий. Помещения школ фактически использовались под учебные классы в среднем до 35 %, а в некоторых школах до 30 %.
В результате этих ошибок Наркомпросов РСФСР, УССР и других республик в городских школах СССР создались совершенно недопустимые условия для обучения детей, установлены две, а во многих школах даже три смены, причем третья смена обучается до 11 часов вечера, в ряде школ практикуется такой порядок занятий (непрерывка), при котором дети не имеют единого дня отдыха и постоянных классных помещений.
СНК СССР и ЦК ВКП(б), считая подобное положение совершенно нетерпимым, постановляет:
1. Ликвидировать к осени 1935 г. в школах крупных городов, а к осени 1936 г. во всех городских школах СССР третью смену, порядок занятий без единого дня отдыха и без постоянных классных помещений для учащихся.
Занятия в школах в две смены ликвидировать в крупных городах в 1937 г., а во всем СССР в 1938 г.
2. Для ликвидации в городских школах к началу 1936 учебного года третьей смены и порядка занятий без единого дня отдыха и без постоянных классных помещений для учащихся и для обеспечения приема нового контингента учащихся:
а) построить в 1935 году в городах СССР по списку № 1 – 374 школы на 240 390 ученических мест, стоимостью 223 978 тыс. руб. (считая с переходящим строительством и расходами на оборудование).
б) Передать к 1 июня 1935 г. в ведение Наркомпросов союзных республик под школы 72 школы ФЗУ на 28 820 ученических мест.
в) Предложить Наркомпросам союзных республик и отделам народного образования установить более рациональное использование помещений школ, занимая под классы и так называемые подсобные помещения (залы, рабочие комнаты и пр.), доведя процент использования школьной площади под классы с 35 % до 60–65 %.
3. Утвердить типы школьных зданий в городах и запретить без разрешения СНК союзных республик проводить строительство нетиповых школ.
Обязать наркомов просвещения лично утверждать все проекты школьных зданий в соответствии с установленными типами и нормами школьного строительства.
4. Установить, что все ассигнования на школьное строительство идут по бюджетам Наркомпросов особым параграфом; распорядителями кредитов на школьное строительство являются Наркомпросы и отделы народного образования на местах.
5. Установить, что средства, ассигнованные на школьное строительство по местному бюджету и бюджетам хозорганов, должны быть выделены как целевой фонд и не могут быть использованы на другие нужды.
Из всей суммы годовых ассигнований на школьное строительство не менее 30 % отпускать в 1 квартале, не менее 70 % – в первое полугодие и не менее 90 % в течение первых трех кварталов.
6. СНК СССР необходимо в 10-дневный срок на представление Госплана СССР выделить в планах снабжения строительными материалами на 1935 год фонды строительных материалов, обеспечивающих настоящую программу школьного строительства.
7. Организовать в составе Наркомпросов союзных республик управления по школьному строительству, а в краевых и областных организациях народного образования и Наркомпросах автономных республик – отделы по школьному строительству, возложив на них руководство строительством, проектирование школьных зданий, организацию снабжения стройматериалами и проверку состояния школьного строительства на местах.
8. Создать в крупных городах тресты школьного строительства, подчиненные непосредственно городским советам.
Поручить Совнаркомам союзных республик установить список городов, в которых должны быть созданы тресты школьного строительства.
9. Поручить Госплану СССР к 1 мая 1935 г. разработать и внести на утверждение СНК СССР план школьного строительства в 1936–1940 гг., имея в виду ликвидацию повсеместно двухсменных занятий в школах.
10. Установить следующий прием в высшие учебные педагогические заведения по СССР

В соответствии с этим ассигновать Наркомпросам союзных республик на строительство, ремонт и оборудование помещений и общежитий педагогических учебных заведений в 1935 году по капиталовложениям 45 млн рублей. Предложить Госплану СССР распределить указанный контингент приема и сумм капиталовложений по союзным республикам»[21].
Это было именно то, что требовалось. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 февраля 1935 года полно и емко выявляло все недостатки школьного строительства предшествующих лет, намечало конкретные направления исправления тяжелой ситуации в области среднего образования и четко распределяло обязанности различных ведомств по организации школьного строительства.
Правда, намеченные в нем сроки ликвидации трехсменки выглядели явно нереальными – решить накопившиеся за десятилетия проблемы в течение одного года было невозможно, что и доказал пример реализации постановления в Москве. Окончательно изжить трехсменку удалось лишь через три года интенсивного школьного строительства. Надо думать, что в других городах ситуация складывалась по крайней мере не лучше.
Тем не менее заданные жесткие сроки сыграли свою роль – сооружение школ в городах развернулось сразу и широким фронтом, без традиционной раскачки.
Новые установки положили конец школьной гигантомании. Вместо учебных «комбинатов» на две и три тысячи ребят основным типом школьного здания для крупных городов должна была стать двухкомплектная школа на 880 учащихся (по два класса с первого по десятый и два приготовительных) с двадцатью двумя классными помещениями. Этот же тип мог использоваться и для школ с тремя комплектами с пятого по десятый и одним комплектом с первого по четвертый класс (что было целесообразно там, где рядом работали начальные школы). Конец всевозможных педагогических изысков символизировался требованием доведения учебной площади до 62 процентов и соответствующего сокращения всяких вспомогательных помещений.
Реализация постановления началась немедленно. Проектные мастерские Наркомпроса на основе новых нормативов в течение всего нескольких месяцев разработали восемь типовых проектов, из них два – школ на 880 учащихся[22].
Но реализоваться в столице им было не суждено. Ситуация с учебными зданиями в городе была крайне напряженной. В начальных и средних школах города училось 458 тысяч ребят, или 12,5 процента населения. Для того чтобы понять значительность этой цифры, нужно вспомнить 1913 год, когда эта категория населения составляла лишь 7,6 процента. Для размещения почти полумиллиона ребят столица располагала всего 374 школьными зданиями, из которых лишь около сотни отвечало элементарным требованиям времени. Немудрено, что занятия приходилось вести в переполненных классах, часто в три смены. Не случайно проблеме школьных зданий уделялось внимание и в генеральном плане реконструкции Москвы, принятом в том же 1935 году.
«СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 1935 г. № 1435
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ …
14. Для лучшего обслуживания населения города культурно=бытовыми учреждениями развернуть строительство сети школ, амбулаторий, столовых, детских садов, детских яслей, магазинов, физкультурных площадок и т. п. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР считают неправильным стремление к замкнутому размещению всех этих учреждений в каждом большом доме только для жильцов этого дома. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР считают, что школы, амбулатории, столовые, детские сады, детские ясли, театры, кино, клубы, больницы, стадионы и другие виды учреждений культурно=бытового обслуживания населения должны размещаться в центре ряда кварталов в расчете на обслуживание населения, проживающего не в одном, а в десятках домов».
В Москве предполагалось строительство 72 школ, что было в два раза больше, чем выстроили в Москве за предыдущие десять лет, и в два раза больше, чем за весь дореволюционный период!
Поскольку это количество составляло почти пятую часть из 374 школ, намеченных постановлением, столица ставилась в особые условия. Если в большинстве крупных городов строительство должно было вестись по типовым проектам Наркомпроса, для Москвы (впрочем, как и для Ленинграда) делалось исключение – для нее разрабатывались специальные проекты, учитывающие столичные функции города и крайнюю плотность застройки, среди которой было нелегко выкроить подходящий для школы участок. За проектирование взялись архитектурно-проектные мастерские Моссовета, а также проектировщики Наркомтяжпрома.
Подготовка к строительству началась сразу же после опубликования постановления. На особые эксперименты времени не оставалось, и надежды на то, что в спешке будет выработан удовлетворительный единый типовой проект, были весьма призрачными. Московские власти пошли другим путем, фактически отступив от требований постановления. Вместо разработки единого проекта проектирование поручили сразу шестидесяти архитекторам. Расчет делался на то, что после реализации из них удастся выбрать самые лучшие, которые можно будет довести до уровня типового.
Перед проектировщиками поставили точные ограничения, в рамках которых должны были разрабатываться проекты. Главным ограничением стала цена – не выше 58 рублей за один кубометр объема здания. А предельный объем – 14 500 кубометров. В него требовалось уложить двадцать две классные комнаты, два кабинета (физический и химический), библиотеку, директорскую, учительскую, буфет, раздевалку. Помимо этого, в школах предусматривались квартира для семьи директора и комната для проживания сторожа. В школе – не более четырех этажей, высота каждого – три с половиной метра в чистоте, то есть от пола до потолка. Строго регламентировались толщина и материал стен, размеры перекрытий, типы крыш. Из соображений пожарной безопасности – для обеспечения надежной и быстрой эвакуации детей с верхних этажей в случае пожара – каждая школа должна была иметь не менее трех лестничных клеток.
Особое внимание уделялось внутренней отделке. Школы в Москве еще не превратились в привычный и заурядный тип зданий, и, чтобы подчеркнуть их высокое назначение, в классах устанавливали широкие двупольные двери, входные двери выполняли из дуба, в коридорах и учительских настилали паркет.
От архитекторов требовалось продуманное, по возможности лучшее планировочное решение всего здания и расположения помещений, а также красивое архитектурное оформление фасадов и интерьеров. То, что выполнять это приходилось в рамках жестких ограничений, делало задачу трудной, но зато более интересной.
Огромное значение для успешного выполнения программы школьного строительства имела установленная стандартизация отдельных деталей – столярки, элементов лестниц, перегородок, перекрытий. Их изготовляли в специальных цехах и доставляли готовыми на стройплощадки. 7500 окон, столько же подоконников, 2500 дверей потребовалось для школьных зданий по программе 1935 года[23].
Первые блины – такие разные
Пятьдесят московских зодчих одновременно приступили к проектированию, а через некоторое время и к надзору за строительством семидесяти двух школ.

Проект школы на Дровяной площади. Перспектива

Школа на Дровяной площади. Фото 1935 г.
Необходимость одновременного надзора за множеством строительных площадок являлась еще одним аргументом в пользу принятого исполкомом Моссовета решения о распределении проектирования. Каждому автору заранее отводилась конкретная строительная площадка, изучив особенности которой он мог сосредоточить на ней все внимание и, возможно, даже корректировать проект в ходе строительства.

Проект школы во 2-м Щемиловском переулке (подобная выстроена и в Скорняжном переулке). Арх. И.Л. Длугач. 1935 г. Перспектива
Очень интересным оказалось сравнение результатов поисков московских зодчих.
Среди них сразу нужно выделить несколько зданий, начатых постройкой в предшествующем году, а потому не связанных вышеизложенными условиями.
Так, в 1934 году было начато строительство школы на Дровяной площади (ныне Хавская улица, 5) по проекту А.И. Антонова. Ее план представляет собой букву «Т», а фасад украшен портиком с самыми настоящими, почти коринфскими колоннами! Архитекторы, проектировавшие школы по заданиям 1935 года, такую вольность позволить себе уже не могли.
Но от нагромождения пышных деталей проект лучше не стал. Классические детали – колонны, пилястры, карнизы – механически сочетались с элементами конструктивизма. Подчеркнуто пышная трактовка центрального объема противоречила примитивности других элементов, применению грубоватых архитектурных деталей.
Другая незаконченная в 1934 году стройка велась на 2-й Рощинской улице, 10. Архитектор А.Б. Варшавер запроектировал сложное, многообъемное здание. Главный корпус имел три этажа, а боковые крылья – по два, что сразу выделяло эту школу в ряду четырехэтажных проектов 1935 года (сегодня здание надстроено и в значительной степени утратило свой необычный облик). Сложен и асимметричен план школы – он подходил для просторных участков на окраинах Москвы, где зодчего не стесняли никакие соседние постройки.
На фоне этих сооружений, спроектированных еще в духе прежних изысков, школы проектов 1935 года выглядели более единообразно, но отнюдь не одинаково.

Проект школы на Переяславской улице. Арх. К.С. Рыжков.1935 г. План 1-го этажа
Различие начиналось уже с общего приема планировки. Большая часть проектов предусматривала однообъемные здания в четыре этажа с центральной осью симметрии, но встречались и исключения. Например, архитектор И.Л. Длугач к среднему четырехэтажному корпусу приставил два боковых трехэтажных. Некоторые зодчие предложили асимметричные планы. Необычными очертаниями плана (в виде ключа) выделялся проект К.С. Рыжкова. Такое построение привело в усложненности внутренней планировки школы, появлению узких коридоров, нелогичности в размещении вспомогательных помещений.

Проект школы на Октябрьской улице. Арх. А.Б. Варшавер.1935 г. Перспектива
Но зато здание получилось очень компактным – всего 46 метров в длину, что позволяло ставить такие школы на маленьких участках в центре Москвы. Возможно, поэтому далеко не самый удачный проект использовался и в следующем году. Также асимметричный план с главным входом, вынесенным на правое крыло, предложил все тот же архитектор Варшавер для школы на Октябрьской улице.
Понятно, что асимметричными поневоле вышли проекты, предназначенные для сложных площадок у перекрестков улиц. Так, проект школы на углу Большой Почтовой улицы и Ирининского переулка, разработанный архитектором М.И. Синявским, показал, сколько проблем доставляет архитектору и школе неудобный участок. Архитектору пришлось остановиться на сильно растянутом плане в виде буквы «Г», причем слагающие ее корпуса оказались разной толщины. Из-за этого коридор уличного корпуса имеет ширину 5,5 метра, а в корпусе вдоль переулка – всего 2,5 метра, хотя длина его больше. В конце этой узкой «кишки» оказались уборные и лестничная клетка. Две других лестницы отнимают значительную часть площади у широкого коридора. В целом работа Синявского может рассматриваться как яркая иллюстрация того, насколько вредит качеству школьного здания неудобный участок, на котором ее возводят.
Зато благоприятное впечатление производит внешность школы. Придерживаясь в целом ренессансных традиций, автор выделил выходяший на улицу объем, но отказался от традиционного выделения на фасаде несущей, нижней части. Украшает здание сильная венча ющая часть, под которую автор отвел всю плоскость четвертого этажа.
Очень сложный угловой участок достался и Л.О. Гриншпуну, проектировавшему школу на Малой Татарской улице. Здесь зодчий преуспел еще меньше. Стремясь добиться внешнего эффекта, он устроил парадный вход на углу Татарской и Садового кольца. Это было бы уместным для магазинов и прочих заведений, которые должны обращать на себя внимание как можно большего числа прохожих. А вот у школы вход следовало сделать как раз в самом тихом и спокойном месте. Процесс обучения требует наибольшего удаления от улиц. Из-за грубой ошибки зодчего здание вскоре перепрофилировали в лечебное заведение.
Все же большинство школ ставилось на более просторных участках, и их проектировали симметричными. Но и в этой большой группе проектов различий хватало – прежде всего в форме плановых очертаний. Кто-то для компактного размещения классов выбирал план в виде вытянутой буквы «П», другие – в виде «Н», третьи – вообще ни на что не похожий.
У большей части школ 1935 года было по две раздевалки. Проектировщики считали, что потоки ребят младших и старших классов лучше разделять – пусть каждый возраст имеет свою раздевалку. Тогда младшеклассники будут чувствовать себя более спокойно, чем в окружении старших верзил. В большей части проектов эта мысль получила логическое развитие – при двух раздевалках требовались два вестибюля и два парадных входа. Школы, в основу которых положили этот принцип, получали, как правило, симметричное решение с двумя выступающими крыльями, в которых и располагались входы.
Два входа, а лестниц в силу требований противопожарной безопасности нужно не менее трех! Как быть с третьей? Для сохранения симметрии зодчие не мудрствуя лукаво просто-напросто устраивали вместо положенных трех четыре лестничные клетки, размещая их попарно в крыльях зданий.
Таковы проекты школ на Извозной (ныне Студенческой) улице (архитекторы Л.Я. Мецоян и Е.Г. Чернов), на Нижней Пресне (архитекторы М.П. Парусников и И.Н. Соболев), по Факельному переулку (архитекторы Ю.В. Дульгиер, С.А. Кулагин, И.И. Фомин), Кропоткинской улице (архитекторы М.О. Барщ и Г.А. Зундблат).

Проект школы в Факельном переулке. Арх. Ю.В. Дульгиер, С.А. Кулагин, И.И. Фомин.1935 г. Перспектива

Проект школы в Елоховском проезде. Арх. Л.О. Бумажный. 1935 г. Перспектива
Бессмысленность такого размещения отчетливо видна на планах. На практике из двух рядом расположенных лестниц использовалась одна, а вторая попусту отнимала пространство, которое можно было бы использовать для чего-нибудь более полезного.
Поэтому несколько зодчих избрали другой путь. Нужна третья лестница? Что ж, поставим ее по центральной оси здания, а чтобы она не бездействовала, снабдим ее собственным вестибюлем и еще одним, центральным входом. Так возникли проекты с тремя вестибюлями и тремя парадными входами – например, школы, выстроенные по проектам А.М. Капустиной и В.М. Кусакова на Большой Молчановке, В.С. Колбина в Токмаковом переулке, Л.О. Бумажного в Елоховском проезде.
Внешне они выглядели гораздо торжественнее своих двухподъездных собратьев, так как расположенный в середине вход привлекал больше внимания, чем боковые, и становился выигрышным акцентом на фасаде здания. Но дополнительные вход и вестибюль так же, как и четвертая лестничная клетка, отнимали у школы заметную часть полезного объема, а для повседневных нужд не использовались. Практика первого же года работы показала, что и двух входов, и двух лестниц вполне достаточно, а третий является лишним, лишь попусту охлаждающим здание. Поэтому уже с 1936 года такие школы больше не строились.
Среди прочих проектов, основой которых служил вытянутый параллелепипед главного корпуса с примыкающими к нему ризалитами, выделялась необычным видом школа на Старом шоссе (ныне улица Вучетича). Архитектор А.Н. Федоров построил свою школу на очень широком, почти квадратном основании – первом этаже. Его рассекал пополам гардероб, подходы к которому обеспечивались с двух сторон. Таким способом автор рассчитывал разделить школьников старшей и младшей групп. Три верхних этажа, возвышавшиеся над этим несколько экстравагантным основанием, имели вполне традиционную планировку. С одной стороны перпендикулярно к тыльной стене главного корпуса примыкало вытянутое трехэтажное крыло, в котором вдоль узких коридоров располагалась большая часть классных комнат. При столь лихо асимметричном плане фасад был сугубо торжественным и симметричным. Трехэтажные ризалиты обрамляли оформленную рядом пилястров фасадную плоскость, из которой выступал тамбур парадного входа. В целом проект получился не слишком удачным, но на редкость эффектным и нетрадиционным. Поэтому жаль, что школу на улице Вучетича снесли в конце XX века.
Сложную задачу решали М.О. Барщ и Г.А. Зундблат. Им достался неудобный и тесный участок в самом центре – на Кропоткинской улице. Архитекторы сумели найти удовлетворительную конфигурацию здания и так вписать его в окружение, что классы оказались удалены от улицы на 40 метров, а на участке осталось достаточно нераздробленного свободного пространства для игр и занятий физкультурой.

Проект школы на Кропоткинской улице. Арх. М.О. Барщ и Г.А. Зундблат. 1935 г. Перспектива

Проект школы на Суконной улице. Арх. Б.И. Жолткевич. 1935 г. Перспектива
На Ленинградском шоссе (ныне Ленинградский проспект) строилась школа по проекту А.И. Антонова и А.М. Шевцова. Ее планировка при достаточно большой длине (65 метров) имела ряд недостатков. Фронт гардеробов был маловат, неудачно размещены физический и химический кабинеты – на одном этаже. Обычно их располагали один над другим, что позволяло оптимизировать прокладку необходимых коммуникаций. Не нашли авторы места для кабинета заведующего учебной частью. Коридоры шириной 3,25 метра выглядели узкими щелями при их большой длине (33 метра) и высоте (3,3 метра).

Проект школы на улице Гастелло. Арх. А.Е. Аркин.1935 г. Перспектива
Очень похожими на этот проект, отличавшимися в основном расположением входов и лестниц, вышли школы на Суконной улице (архитектор Б.И. Жолткевич) и две школы, строившиеся по проекту Н.И. Хлынова на Донской улице и в 1-м Хвостовом переулке[24].
Очень эффектными получились школы А.Е. Аркина на улице Гастелло, 35 и Л.Н. Павлова на улице Талалихина, 20. Первый архитектор взял за основу свой проект 1934 года (реализованный в школе по проспекту Мира, 87, о котором рассказывалось выше) и повторил его многообъемную композицию, изменив внешнее оформление в соответствии с новыми веяниями. Центральная часть в четыре этажа получила выраженное вертикальное решение, а боковые двухэтажные крылья – горизонтальное, что подчеркивают устроенные во вторых этажах протяженные лоджии. Боковые входы выделены легкими портиками. Силуэт здания живописен, удачно найдены поэтажные членения. В целом, отправляясь от принципов ренессансной архитектуры, Аркин достиг сдержанности и легкости своей постройки.
Внутреннее размещение помещений логично и ясно. Автор удачно сосредоточил подсобные площади, за счет чего получил просторный коридор. Хорошо построено движение от тамбуров мимо гардероба к парадным лестницам, с последовательным нарастанием простора.
Школа Павлова, напротив, выглядит массивной и солидной. Ее центральная часть представляет собой частую сетку огромных окон, напоминающую шахматную доску. С ней резко контрастируют боковые ризалиты, оставленные вообще без окон. В решении фасада здания явно чувствуются отзвуки конструктивизма.

Школа на Верхней Красносельской улице. Арх. И.Г. Безруков, Е.Л. Кекушева. 1935 г.
Школа Павлова выделялась и другими особенностями. В отличие от большинства других проектов лестницы в ней располагались не перпендикулярно к коридорам, а служили их продолжением, зрительно увеличивая площадь. Ощущению простора способствовала и очень большая ширина коридоров (до 6 метров), превращавшая их в полноценные рекреационные залы. Но так как превышать установленную кубатуру было нельзя, достичь этого удалось за счет предельно плотной компоновки всех остальных помещений.
Самая монументальная из всех школ 1935 года появилась на Верхней Красносельской улице. Ее авторы – И.Г. Безруков и Е.Л. Кекушева (между прочим, дочь одного из самых известных московских архитекторов эпохи модерна) – при строго симметричном плане сосредоточили все средства архитектурной выразительности на двух мощных ризалитах главного фасада, скомпонованных в виде монументальных портиков, поставленных на рустованный цоколь. Эффект получился несколько неожиданным. Тяжелые и мрачноватые портики составляли контраст с остальной частью главного фасада – легкой, сильно остекленной стеной. Откровенную декоративность портиков подчеркивали и огромные окна в них. Несмотря на все старания зодчих, создать творение в духе русского классицизма у них не получилось. Да это в общем-то было и ни к чему. Главное – школа вышла неординарной, выделялась из окружающей застройки. К сожалению, и это интересное сооружение недавно уничтожили.

Проект школы в Трехпрудном переулке. Фасад

Проект школы на Усачевой улице. Арх. К.И. Джус. 1935 г. Перспектива
Школу в Трехпрудном переулке строили по проекту А.К. Бурова. Ее главный фасад смотрел в небольшой безымянный проезд, а в переулок должен был выходить узкий торец. На его оформлении архитектор сосредоточил все свое внимание, решив его в духе представительной жилой, а не общественной архитектуры. Маленькая плоскость торцового фасада настроила Бурова на лирический лад, и он слегка пошалил, придав школе черты загородной виллы эпохи Возрождения. Сделано это с присущими зодчему выдумкой и мастерством. Критики не уставали восхищаться легкостью и изяществом членений стены торцового фасада с живописно расположенными архитектурными элементами и деталями.
Однако школа состоит не только из торца, а к остальным составляющим проектировщик отнесся без особого воодушевления. Главный, пусть и спрятанный во дворе фасад представлял собой обычную стену с сеткой окон, план также был решен без особой фантазии. Попытавшись создать иллюзорный, не соответствующий назначению здания образ, автор не нашел общего гармонического строя композиции, распадающейся на ряд красивых фрагментов. А поскольку подобных участков в Москве больше не предвиделось, школа в Трехпрудном так и осталась единственной реализацией буровского проекта.
Как малоудачный был расценен и проект школы на 2-й Черногрязской улице архитекторов М.П. Парусникова и И.Н. Соболева.
Во внешней архитектуре они подобно Бурову исходили из композиционных приемов ренессанса, но не слишком преуспели. Результат получился неудачным. План здания имеет форму буквы «П», причем ее «ножки» повернуты в тыл здания. Со стороны главного фасада в распоряжении авторов осталась лишь одна большая плоскость. Быть может, в силу этого задуманное членение объема по вертикали и горизонтали смотрелось бледно даже на чертеже и немногим лучше в натуре. Слабыми акцентами композиции выглядят порталы боковых входов и обработанные пилястрами глухие плоскости стен над ними[25].
Архитектор А.А. Кеслер проектировал школу на Пресненском Валу. Его проект представлял собой наиболее примитивное решение – с узкими коридорами, проходящими через этажи. Из-за того что все классы вытягивались в ряд вдоль коридоров, здание получилось очень длинным.
Фасаду зодчий сумел придать изысканность пропорций и даже красоту. Однако этот красивый, но слишком строгий и неприветливый фасад больше подошел бы административному зданию, чем школе, – настолько сухо и официально он выглядел.
Проект В.Б. Вольфензона и В.В. Калинина получил оценку «выше среднего» благодаря удачному решению фасадов. Они приобретали эффектный вид благодаря различным обрамлениям окон и замыкающим пилястрам на углах.

Проект школы в Дангауэровке. Арх. Д.Ф. Фридман. 1935 г. Макет

Школа в Дангауэровке на Авиамоторной улице. Арх. Д.Ф. Фридман. 1935 г.
