На Волховском и Карельском фронтах. Дневники лейтенанта. 1941–1944 гг.
Text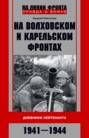


Zum Hörbuch
- Größe: 630 S. 1 Illustration
- Kategorie: Biografien und Memoiren, Sachbücher
1 октября. У наших аттестованных выпускной вечер. Папенков, Орлов и Витька Чеканов в последний раз поют перед ними свои песни и романсы. Все перепились. Николай Морозов, по старой привычке, притащился на свое прежнее место и наблевал в сапог Витьке Денисову, которого переместили на его бывшую койку. Младшего лейтенанта Морозова отправляют в отдел кадров Волховского фронта. Нового обмундирования им не выдали – обещают экипировать в Вологде.
Рота пополняется новыми курсантами, и среди них двое с комсоставскими знаками на петлицах. Положение их среди нас, рядовых по званию, стало сразу же предметом постоянных недоразумений. Мы никак не желали признавать за ними «комсоставской исключительности» и демонстративно обращались с ними по-свойски. Те злились, жаловались и постоянно напоминали о своем комсоставском ранге. Один из них отчисленный из органов капитан госбезопасности Овчинников – желчный и злобствующий субъект, другой – младший лейтенант Петров, с тяжелой челюстью и глубоко посаженными глазами, – тупой циник, склочник и алкоголик. Оба они завалили госэкзамены и аттестованы были при выпуске младшими лейтенантами. К великой нашей радости, Овчинникова и Петрова вскоре перевели из нашей роты. Вместо них во взводе появились двое старшин кадровой службы – Рогозин и Артюх.
Старшина Рогозин – статный, крепкий и красивый мужик, лет тридцати с небольшим. Он заменил нашего Максима Пеконкина. Уравновешенный от природы, грамотный как артиллерист, доброжелательно ко всем расположенный, Рогозин воспринимался нами продолжателем традиций, укорененных нашим незабвенным Максимом. Такое в немалой степени способствовало торжеству дружелюбных, товарищеских отношений и придавало нашей казарменной жизни спокойный и полуофициальный характер.
Старшина Артюх был единственный из курсантов, кто награжден медалью «За отвагу» в боях, на реке Халхин-Гол. Уроженец Одессы, он олицетворял собою неповторимый юмор и жизнерадостность. Его низкорослая фигурка на коротких и кривых ногах казалась спрессованной из камня. Физиономия Артюха напоминала луну, как ее обычно рисуют в детских сказках. Помимо всего, Артюх был страстным женолюбом и ежедневно после отбоя отправлялся «по бабам».
Уже после нашего производства в офицеры старик Матевосян спросил у Виктора Федотова: «Дело прошлое, в Устюге я все ваши дырки в заборе знал, через которые в самоволку бегали. Одной только не знал. Скажи, где была эта дырка?»
– Через окно, товарищ полковой комиссар, по водосточной трубе.
Матевосян хлопнул себя по лбу, весело засмеялся и произнес:
– Скажи пожаласта, а! Ай да мальчишки! Провели старика! Я все ваши ходы знал, а про этот нэ догадался!
Равных Артюху на почве Эроса не было во всем училище. Лазал он и по водосточной трубе, и через забор, и прямо через проходную. И никогда не попадался.
– У тебя такая рожа, Артюх, – как бы в шутку сказал Мкартанянц, – что, что бы ты ни сделал, всем ясно, что делаешь ты все это не иначе, как на «законных основаниях».
– Таки у нас же ж в Одессе иначе ж нельзя, – отвечал Артюх, нимало не смущаясь.
Невозможно было смотреть без хохота на то, как, вернувшись в казарму утром, усталый и невыспавшийся Артюх начинал картинный рассказ о прошедшем ночном свидании, не забывая мельчайших подробностей и оригинальных деталей. На занятиях он безмятежно спал.
2 октября. Ночной поход по тревоге. В проливной дождь, по грязи мы идем форсированным маршем на двадцать километров. По ходу учений то и дело разворачиваемся в боевые порядки побатарейно. Задача: тренировка управления орудием и наводка по реперу в условиях плохой видимости. Я не вынес темпа и упал, потеряв сознание, сердце учащенно билось, глаза застилал туман, во рту все пересохло. Фельдшер, сопровождавший нас, приказал возвратиться в казарму.
3 октября. Ошеломляющая новость: училище переводят в другой город. Но в какой же именно?! Этого пока еще никто не знает.
Я тотчас иносказательно предупреждаю свою мать, намекая ей, что возможен перебой с доставкой почты или задержка ее «в пути». Большего, в условиях военного времени и цензуры, я сообщить не мог. Должна догадаться сама.
5 октября. На площади перед штабом состоялся общеучилищный смотр строевой подготовки. Отбивая шаг, в скатках и с винтовками у плеча проходим мы строем перед начальником нашего училища. Подполковник Самойлов стоит около свой эмки. На смуглом лице его застыла маска суровой непроницаемости, глубокие носогубные складки, тонкий и жесткий рот, сильные, энергичные скулы словно вытесаны из желто-коричневого камня. Лишь жгучий взгляд угольночерных глаз из-под нависших бровей следит за нами, оживляя собой эту глыбу величественной неподвижности. Над клапаном грудного кармана сверкает серебром и эмалью единственный орден Боевого Красного Знамени, полученный, как нам известно, за бои в Монголии. Рядом с Самойловым начальник учебной части сухощавый подполковник Штриккер.
На смотру наш московский дивизион не посрамил чести столицы и не ударил в грязь лицом перед вологодской пехотой.
6 октября. Батарея 76-миллиметровых полковушек отправляется на полигон. Запланированы показательные стрельбы. Я вновь ездовой орудийной упряжки, на этот раз уже с боевым комплектом снарядов в передке. Старшина выдал мне солдатские шпоры. Солнце сверкает в беспредельной синеве неба – холодного и осеннего. А радости моей нет предела. Вначале все шло хорошо. По городу ехали шагом, орудие и передок мерно громыхали по булыжной мостовой ошиненными деревянными колесами. За городом упряжка пошла мягко по укатанной пыльной дороге. Расстояние до стрельбища было невелико, и кони шли ходко. На одном из поворотов, зазевавшись, я не заметил довольно-таки крутого спуска, не предупредил тормозных, не дал облегчение коню положением своего корпуса, а, как бывает в подобных ситуациях, все сделал наоборот – взял коня в шенкеля, ковырнул его шпорой. Конь рванул, потащил упряжку, дышло вывернулось и поднялось, валки попадали лошадям под задние ноги, а хомуты давили горло. Орудие начало заносить, и оно запросто могло смять упряжку. Чем бы все это могло кончиться – не знаю. Но кто-то догадался сунуть черенок лопаты между спицами колеса. Орудие пошло юзом и увязло в песке. Рогозин велел взять на тормоза и в лямки, а мне погрозил кулаком.
Вечером обсуждали случившееся. Я лежал на койке. Разболелась придавленная дышлом нога. Говорили разное. Вдруг до меня долетел голос Артюха:
– О, то ж, помню, було и у нас на действительной, – Артюх говорил мягко с особым одесских акцентом, – силы мы тоди по перворазу на конь. И пошел взводный гонять нас по плацу бэз стрэмян. Трясемся, а у глазах усё перевертается. После занятий смотрю, у мэни уси ляжки в крови. Пока дошел до санчасти, кальсоны к ногам прилипли. Думаю, мабудь, у госпиталь положуть. А фелыпер гад, як дернет за кальсоны – у мэне аж искры с глаз. Так и содрал, падла, умеете с кожей. Намазал, понимаешь, йодом. И говорит: иди езди дальше. А еще, говорит, сдерешь – таки я тебе враз опять намажу.
Глядя на Артюха, все хохотали, хохотали до слез. Хохотал вместе со всеми и сам рассказчик.
Нигде и никогда более не встречал я в людях такого наивного и веселого эгоизма, как у Артюха. Такого откровенного расположения к нему окружающих. Без сомнения, Артюх никогда не упускал случая воспользоваться тем, что ему бывало нужно, но делал он это таким образом и с таким обаянием, что люди сами были готовы идти ему навстречу.
7 октября. Еще нет никаких официальных распоряжений относительно передислокации нашего училища, а по подразделениям втихаря идет упаковка вещей, ротного инвентаря, оружие ставят на густую консервационную смазку. Ходят слухи, будто переезд наш обусловлен отсутствием железнодорожной связи Устюга с центром и что зимой сюда якобы трудно будет доставлять продукты.
8 октября. Отправил домой телеграмму, в которой предупреждал свою мать относительно переезда в другой город. Свой «Мозер» я продал: в дороге потребуются деньги. Выручил я за него 750 рублей.
11 октября. Ощущается сильное похолодание. Ухудшилась кормежка – не хватает продовольствия, исчезли сливочное масло, сахар, компот, томаты, сократили норму мяса и рыбы. Появился картофель, но его много идет в очистки. Значительно уменьшились порции. Подрубщики приуныли.
12 октября. Во второй половине дня мы покидаем Великий Устюг. Идет погрузка на баржи и пароходы. По реке до Котласа, а там поездом. Куда?! У какой-то женщины на пароходе выменял за свой черный берет несколько картофелин. Пока идет погрузка, на двух кирпичах готовим себе похлебку. В дорогу выдали хлеб, крупу, консервы. Кипяток на пароходе ржавый и вонючий. Гаснет малиновый закат, и над свинцово-бурыми водами Сухоны повисает мрачный полог осенней, ветреной ночи. Спать готовимся на открытой палубе, сбившись от холода в кучки.
– Прощай, древний и златоверхий, исконно русский город Великий Устюг. Ты напитал нас духовно и телесно – свидимся ли когда еще?!
В Каргополе
13 октября. По слухам, нас переводят в Каргополь. От Котласа эшелонами через Вятку на Вологду, а там по линии Москва – Архангельск до станции Няндома. Далее стокилометровый путь походной колонной. Старшина сообщил: «Никаких чтобы лишних вещей в рюкзаках не было».
14 октября. Станция Котлас. Формируются эшелоны. Подали пульмановские вагоны на девяносто человек. Идет погрузка. До завтрака занимались строевой подготовкой. Ночью выпал снег, и в летних пилотках, без перчаток холодно и мозгло. Ноги мерзнут в холщовых портянках. В вагонах натоплено, а после занятий на холоде ощущается явный комфорт уюта. Но дрова нужно заготавливать самим и проявлять при этом в известной мере «военную находчивость» – то есть следить за тем, чтобы тебя не поймали с поличным. Железная дорога, предоставляя воинским частям товарные вагоны, оборудованные нарами и железными печками, не брала на себя заботу о снабжении их дровами. И те, кто совершал свой путь в номерном воинском эшелоне, должны были заботиться о дровах сами, проявляя при этом разумную инициативу и не раздражая военную прокуратуру. Наш путь предполагался долгим, и топлива потребуется немало. Курсанты разбрелись по городу, тянули колотые дрова из поленниц, рвали доски от заборов, выворачивали прясла.
– Чистая работа, – довольно потирая руки у горячей печки, изрекает Парамонов, хитро подмигивая. Где что стянуть – он отменный мастер.
Вечереет. Нужно что-то соображать насчет еды. В вагоне эту проблему решать труднее уже в силу того, что на железной печке из бочки просто мало места и порой требуется время, чтобы дождаться своей очереди. Харчимся мы на пару – этим очередь сокращается вдвое. Я скооперировался с Олегом и, дождавшись права занять место у печки, стал готовить в котелке картофельный суп с луком и стручковым перцем. Утром выдали продукты: 800 грамм хлеба, 80 грамм масла, пшена и соленой камбалы, после которой нестерпимо хочется пить. На базаре у станции отоварились луком, перцем и молотой пшеницей. Пшеницу замочили в запасном котелке, в расчете сварить из нее кашу на следующий день.
15 октября. Весь день составляли эшелон, и наши вагоны гоняли туда-сюда по путям Котласского железнодорожного узла. Готовить что-либо на печке, кипятить воду, когда вагон постоянно толкают, останавливают и снова толкают, становится сущим наказанием. А у меня беда – я сломал свою деревянную ложку. Обычные армейские алюминиевые ложки неудобны: они гнутся и нагреваются от горячей пищи. Когда в армии харчатся на пару, в выгоде остается тот, у кого ложка деревянная, глубокая и не горячая. От моей расписной ложки остался лишь жалкий обломок, починить который не было уже возможности. На базаре ложки не оказалось. Олег Радченко, хлебая со мной из одного котелка, проявлял товарищескую солидарность, терпеливо ожидая, когда я зачерпну похлебки своим огрызком. Такая деликатность меня даже смущает.
16 октября. В ночь мы тронулись. Лейтенант Нецветаев сообщил нам, что едем мы не на Вятку, а по новой, недавно проложенной дороге на Коношу через Вельск. Нецветаев говорит, что он некоторое время работал в Вельске после окончания строительного техникума. За ночь проехали 43 километра. Метет пурга, и ветер воет со страшной силой. Ударившие морозы сковали болота. Места тут дикие и пустынные. Дорога одноколейная, и мы подолгу стоим на разъездах. Готовим себе пищу, ожидая своей очереди. Пшеница наша разбухла, и ее хватит на несколько раз.
В вагоне полусумрак. Мы лежим с Олегом на верхних нарах и тихо переговариваемся. Сегодня 16 октября. Год назад в Москве была великая паника. Ходили слухи, что Москву сдают без боя. По улицам, к восточным окраинам, идут толпы народа, едут автомашины, груженные барахлом. Пьяные банды громят магазины. На Горьковском и Рязанском шоссе нападают на транспорт и даже убивают. Весь день ждали выступления Сталина. И только к вечеру сообщили, что в Москве вводится военное положение и что паникеры, трусы и дезертиры будут подвергаться расстрелу.
17 октября. Утро встретило нас мрачным пейзажем: едем то вдоль сплошной стены высокого леса, то в окружении непроходимых болот и бескрайней тундры, поросшей кустарником и мелколесьем, то вновь въезжаем в вековую тайгу. Но не радуют нас ни лес, ни просторы. Места здесь глухие, дикие места. Ни единой живой души окрест. Поезд идет тихо, полотно дышит под колесами эшелона. Дорогу строили заключенные, и их лагеря, обнесенные колючей проволокой, с вышками по углам, просматриваются нами вдали. Небо черно-серое, низкие чугунные тучи нависли над горизонтом, давя на душу своею тяжестью. Ослепительно жестким, въедливо колючим впивается в глаза девственный покров снежного наста. Тянет зажмуриться, не видеть этого резкого и тягостного контраста между снежной пеленой и навалившейся громадой неподвижных черных туч. Коряво-уродливые, будто кем-то преднамеренно искалеченные, торчат среди холодно-неуютной пустыни силуэты стволов одиноких сосен и елей. Зияющей, беспросветномрачной чернотой смотрятся среди белоснежной равнины бездонные дыры не успевших замерзнуть болот. Пудовым камнем давит на сердце тоска. Хочется выть, несмотря на то что явной причины к тому нет… Чернеют лица некоторых курсантов, когда взгляд их падает на мелькающие вдали вышки лагерей. На нарах тишина. Москвичам не нужно ничего объяснять – они и так уже достаточно вкусили от «плода познания добра и зла» в свои девятнадцать – двадцать лет.
Проехали станции Лойга, Илеза, Кулой, Вельск. Идет мокрый, крупными хлопьями снег. В Вельске новый, из свежего леса вокзал, а далее – скудные и невзрачные постройки небольшого городка. Все занесено падающим снегом. На перроне военный комендант и несколько хмурых мужиков в трепаных телогрейках. Что-то неласковое, неживое ощущается тут на перроне, возле которого стоит наш эшелон. Двери вагонов открыты, но на платформу выход запрещен, об этом предупредили через дежурного. Ждут встречного поезда. Минут через двадцать на разъезде появляется облепленный снегом черный, пыхтящий паровоз. Тотчас послышались гудки, крики, команды, и наш эшелон, клацая буферами, тронулся с места…
В Коноше мы вышли на линию железной дороги Москва – Архангельск и ходко пошли в направлении Няндомы. Быстро темнело, и вот уже полог темной осенней ночи опустился и окутал все вокруг. Резкий колючий ветер врывается в щели неплотно закрытых дверей вагона, свистит и воет, обдавая спящих на нарах людей струей ледяного и влажного холода.
18 октября. В Няндому прибыли поутру. Мороза как не бывало – все раскисло под мелким и затяжным дождем. Всюду слякоть и грязь. Булыжная мостовая привокзальной площади покрыта жидкой и липкой глиной. Выгружаемся быстро, в темпе. Няндома за день пропускает по несколько эшелонов на Москву и обратно. Времени в обрез.
Общее построение вдоль порожнего эшелона, перекличка, последняя проверка личного состава дежурным по дивизиону и команда: «шагамарш». Весь скарб несем на себе. Минометы договорились брать по очереди от привала до привала. Расчет, идущий под минометными вьюками, отдает свое личное оружие и вещевые мешки товарищам по отделению. Общий вес ноши, таким образом, достигает тридцати килограммов на человека. Путь предстоит пройти не малый – 86 километров, и преодолеть мы его должны за трое суток. Каждые пять километров пути отмечается командой: «Привал вправо». И люди бросаются на мокрую землю, стараясь повыше задрать натруженные ноги и побыть в таком положении хотя бы пять – десять минут. Кровь отливает от стопы, исчезает отечность, восстанавливаются силы. Первый привал у деревни Яковлевская – вокруг мокрые поля, низкое серое небо. Рваные клочья быстро несущихся над головой облаков, казалось, вот-вот заденут макушки огромных ветел, растущих вдоль дороги. На ветлах огромное количество ворон – они отвратительно кричат, то в одиночку, то все разом.
Едва только начинаешь приходить в себя, как трубач сигналит «подъем» и старшина вторит ему своими воплями. Серая масса шинелей подымается с земли, вьючит на себя скарб и начинает медленное свое движение, меся грязь по избитому рытвинами булыжному тракту. Путь наш на редкость однообразен и оттого, наверное, кажется таким нудным и тяжким. Линия дороги прямая, то спускается в ложбину, то поднимается на пригорок. С таких пригорков можно видеть вытянувшееся по шоссе огромное скопище людей с оружием и вьюками, напоминающее собой серую, волосатую, гигантскую гусеницу. У Сафоновой Горы по крутому изгибу дороги обогнули небольшое озеро. Прошли мимо Каменского Погоста, мимо деревень Беловская, Кондовская, Луповская и, наконец, остановились у деревни Вадьезерская, вытянувшейся по берегу Вадь-озера. Кондовые дома на подклетях, суровые старики и бабы. Спать ложимся прямо на полу в избах, в подклетях, в банях. Нас много, очень много, а домов в Вадьезерской мало. За день пройдено 27 километров. Расстояние для воинской части не такое-то уж и большое, если не учитывать условий похода. Измученные не столько физически, сколько истомленные эмоционально, мы засыпаем моментально, укрывшись мокрыми шинелями. И стоял по избам душный и кислый дух от прелой одежды, пота, махорки и дыхания.
19 октября. Едва спал туман, как трубач уже играл «зорю». Курсанты лениво грызут черные сухари, запивая их холодной колодезной водою. Некоторые умывались и даже чистили зубы. Напяливаем мокрые шинели и, растянувшись в серую мохнатую гусеницу, идем дальше мерить версты до древнего Каргополя. В металлической коробочке из-под ландрина у меня припасено масло, перетертое с сахаром, и я нет-нет да и достаю свою коробочку и отколупываю сухарем вкусную и питательную массу.
От Вадьезерской начинается лес – мрачный, темный, вековой лес. Дорога по лесу местами насыпная, гатевая, а местами бревенчатая настилом. Вокруг много непросыхающих болот, страшных своей чернотой, не отражающих даже неба. Идем молча, разговаривать нету сил. Идем без привалов, потому что некуда приваливаться. Дорога по лесу тянется на шестнадцать километров. Навстречу нам из Каргополя идут автомашины, трехтонные ЗИСы. Едут медленно и тихо – дорога узкая, и свернуть некуда. С изумлением и ужасом смотрим мы на эти машины, пропуская их мимо себя. В кузовах машин клетки, и в клетках люди. Они стоят, плотно прижавшись друг к другу. Все в одинаковых телогрейках с номерными знаками.
Из окон кабин смотрят на нас отчужденно-злобные физиономии конвоиров.
В кузове, сзади около клетки, еще двое с автоматами. Это насельники Карглага – их куда-то переводят, освобождая лагерные бараки под наше училище.
Выйдя из мрачного леса, мы вздохнули свободнее, всей грудью, освободились от тяжкой болотной испарины, от кошмарных впечатлений. Впереди деревни Стегневская, Лазаревская, а между ними речка Волокша. Трубач сигналит «большой привал». Рассыпается гигантская гусеница: люди бегут за водой, греют ее в котелках, повесив на прутиках над огнем универсальную солдатскую посудину. Не прошло и сорока минут, как весело застучали ложки и пшенный концентрат, упревший в густую кашу, переместился из котелков в голодные желудки курсантов. К вечеру дошли до деревни Есино, покрыв за день расстояние в 34 километра. И вновь ночлег вповалку в душной и вонючей избе. Завтра последний этап, последние 25 километров, отделяющие нас от цели нашего пути.
20 октября. Дождливым и хмурым вечером вступил наш дивизион в город Каргополь. На мосту через Онегу обдало нас резким и пронизывающим холодом. Широкая, мутная река пенилась белыми барашками и ходила крупной рябью под могучим северным ветром. Мощенные булыжником улицы были в выбоинах, заполненных водою. Всюду слякоть и грязь. Сапоги наши который уж день не просыхают, внутри их осклизлая жижа, и мы бредем по мостовой, не разбирая дороги. Дома в городе больше деревянные, серые от ветров и, видать, давно не ремонтированные. Храмы с ободранными, ржавыми куполами. Все это наводит тоску и давит на душу.
Временно наш дивизион разместили в деревянном, одноэтажном здании «Базовой школы» на улице Ленина. Первому и второму взводам отвели один из классов. Парты моментально выброшены на улицу, а люди, прямо на полу разостлав пустые матрацные наволочки, шинели и одеяла, ложились, кто где придется, и тотчас засыпали. Мне посчастливилось захватить место в углу у окна. По крайней мере, здесь мне никто не наступит на голову. Легли. Тело стонет, ноги гудят; на тебе и под тобою все волглое и сырое. И все-таки можно вытянуться и не ощущать на своих натруженных ногах мокрых и раскисших сапог. Нет сил шевелиться. Кажется, вот разразись здесь потоп, извержение вулкана, землетрясение – с места не двинусь, пусть все рушится, а я буду лежать там, где лег. Тишина, слышно лишь мерное дыхание уставших людей.
– Первое отделение первого взвода в караульный наряд, – услышал я громогласный рев старшины Шведова в коридоре.
«Первое, – подумал я, – не наше. Пронесло». Ребята из первого отделения ругались и матерились. Я же, блаженно растянувшись, заснул, как говорят, «мертвым сном».
Проснулся я оттого, что кто-то тряс меня за ноги. Протираю глаза – кто-то сует мне ржаной сухарь и кусок свиного сала. Все сидят на полу, активно и молча работая челюстями. Что происходит?! Оказывается, курсантов Жидкова и Царева поставили в караул у какой-то церкви. А в церкви продовольственный склад.
– Ходим мы вокруг этой церкви с винтовками, – слышу я голос Васи Жидкова, – а церковь разбита, окон нет, решетки все покорежены. На улице дождь, спрятаться некуда. Заглянул я внутрь, думаю, может, от дождя схорониться можно. А там горы сухарей и штабель сала копченого. Мы с Толькой Царевым изловчились, набрали сухарей, шмат сала тиснули. А как сменились, так сюда – с ребятами делиться. Это закон.
22 октября. Знаменательная дата – день моего двадцатилетия. В прошлом году у нас дома собрались мои школьные друзья, двенадцать человек. Несмотря на продовольственные затруднения мать испекла пирог, а в «Елисеевском» на Тверской достали несколько бутылок сухого. Потом, игнорируя комендантский час, шли по Первой Мещанской провожать наших девчонок. В тот день мы прощались как бы со своей беззаботной юностью.
В этот день я всегда получал подарки. Вот и сегодня – не исключение. Старшина объявил, что нам разрешено получение посылок из дома, не превышающих восьми килограмм весом. Тут же я прошу свою мать прислать мне теплые носки, фуфайку, перчатки, циркуль, карандашей, ложку, ножницы и сукна – черного и красного для петлиц и шевронов и галуна золотого или шелкового. Растянувшись на своем «ложе» в углу, я отдался во власть приятным грезам и воспоминаниям.
23 октября. Проснулись мы затемно, задолго до того, как прогорнили «зорю», проснулись от запаха тушеной баранины с луком. Запах был настолько раздражающим и аппетитным, что рот моментально наполнялся слюной. Я выглянул в окно и обнаружил во дворе походную кухню. Это была, должно быть, очень старая кухня на деревянном ходу, служившая своим котлом, вероятно, еще в Первую мировую. Выходит, кончилась сухомятка.
– Кормить будут два раза, – услышали мы крик Анатолия Гунченко, – повар говорит, что выделенный в его распоряжение агрегат времен Очакова с трехразовым питанием не справится. Так что, друзья, на крупную «подрубку» рассчитывать не придется. Вот так!
Подъем прошел вяло, без прежней интенсивности. В строгом ритме военного училища что-то «треснуло». На утренней поверке капитан Краснобаев объявил, что в связи с передислокацией училища дата выпуска будет приурочена к Новому году – то есть к 1 января 1943 года.
Сообщение выслушали молча, но потом спрашивали друг друга: «Все это хорошо, а чем мы станем заниматься?», «Двухлетнюю программу военного училища мы проскочили в сжатые сроки. И что теперь?!»
И вдруг как снег на голову: «Немецкая разведка предприняла операцию „Целлариус“ с целью высадить в районе станции Коноша – озеро Лаче группу специального назначения. Первый отряд диверсантов был сброшен в ночь на 31 августа…» Утверждалось, что диверсионная группа противника обнаружена в лесном массиве в сорока километрах южнее Каргополя.
В стрелковых батальонах сформированы роты быстрого реагирования.
24 октября. Не успели мы заснуть после отбоя. Тревога. Лейтенант Нецветаев построил нас в коридоре. От пятого минометно-артиллерийского дивизиона осталась всего лишь одна выпускная рота. Нецветаев зачитывает приказ по училищу. Выдают боевые патроны, гранаты. Нецветаев отбирает ребят в орудийные и минометные расчеты. Остальные пойдут в боевое оцепление. Перехвачена радиограмма противника: на озере Лаче, севернее деревни Нокола, ожидается посадка вражеского гидросамолета.
Маленький, замызганный буксир всю ночь тащил старую баржу вдоль восточного берега озера Лаче в направлении погоста Никольское или, по-местному, Никола. Наша батарея состояла из двух орудий – старой трехдюймовой полковушки на деревянном ходу и сорокапятки, где-то покалеченной. Взвод 82-миллиметровых минометов должен будет сопровождать огневой поддержкой действия пехотных поисковых групп. На борту баржи находилась и рота курсантов стрелкового батальона во главе со старшим лейтенантом Харитоновым.
В мутном и сыром предрассветном тумане наконец-то стали обозначаться силуэты строений погоста Никольское. Бросили якорь и по шатким деревянным сходням пошли снимать на берег 76-миллиметровое орудие. По мокрым скользким доскам это было делом нелегким. И только наша полковушка встала на твердую почву, как в воздухе послышался звук приближающегося самолета. Нецветаев скомандовал: «Орудие к бою!» Ворочая пушку за колеса, за хобот, мы пристально всматривались в небо.
И вскоре на мутно-туманной глади озера стал заметен силуэт приводнившегося гидросамолета противника. На барже оставалась сорокапятка, и она оказалась в более выгодном положении.
– Заряжай! – кричит Нецветаев.
Снаряд загнали в ствол.
– Затвор заклинило! – кричит в ответ заряжающий Васька Жидков.
К этому моменту наша полковушка была уже готова к бою. Секунды.
И первый снаряд со свистом пошел в сторону гидросамолета, вздымая фонтаны воды на месте разрыва. С баржи били пулеметы стрелков Харитонова.
Самолет все-таки поднялся, но, качнув крыльями в воздухе, рухнул в озеро – семь человек, в том числе и команда, взяты в плен. На поверхности озера плавали тюки с оружием, боеприпасами, продовольствием. Бойцы истребительного батальона на лодках вылавливали трофеи. Это было уже не наше дело.
Слышали мы и о том, что отряд курсантов численностью до роты под командованием старшего лейтенанта Рогожина совместно с группой истребительного батальона вели бой со спецдиверсионной группой противника еще до нашего прибытия в районе населенного пункта Рябово. И к тому моменту, как мы подходили к погосту Никольское, отряд Рогожина оттеснял немецкий спецназ в северо-восточном направлении. У деревни Кузьмины Горы возник короткий, но достаточно активный бой. Ранен курсант Пивоваров из взвода лейтенанта Неклюдова. От деревни Кузьмины Горы, видимо рассчитывая на помощь гидросамолета, диверсионная группа противника устремилась в сторону озера Лаче.
– Утро было серым и туманным, – рассказывает курсант 2-й роты 3-го батальона Сережа Голиков, – я буду помнить это утро. На всю жизнь запомню. Мы шли по пятам противника. Промокли насквозь, под ногами вода, болото. В головном дозоре было трое. Как только вышли на поляну у речки Кинема, из кустов на противоположной стороне шквал автоматного огня. Толика Морозова срезало наповал, а Серебрякова ранило. Еще ранен был один не из наших – командир взвода истребителей – фамилии я не знаю.
Так завершилась наша первая боевая операция – наше боевое крещение!
26 октября. Похороны погибшего на боевом посту курсанта Анатолия Морозова. Простой дощатый гроб, окрашенный анилиновой краской, стоял в здании Каргопольского педучилища в актовом зале. Вереницей шли прощаться курсанты, командиры, жители города. И не было ни одной бабы, которая не выла бы, не причитала горючими слезами, глядя на восковой и совсем еще детский профиль покойного. На кладбище почетным эскортом под командой младшего лейтенанта Королева был произведен троекратный салют из винтовок.
А учеба наша продолжалась. Постепенно возобновлялись занятия по всем предметам.
31 октября. К вечеру вернулись наши оперативные группы, бывшие в оцеплении. Небритые, грязные, замерзшие и голодные, они имели вид понурый, жалкий и отнюдь не воинственный.
– Вы, братцы, случаем, не из окружения? – пошутил опять же острый на язык Мкартанянц.
– Ладно зубы-то скалить, – огрызнулся кто-то из прибывших.
Через пару часов все уже мирно сидели у печки и тянули кипяток с жидкой заваркой из металлических кружек.
– Лежим мы это на берегу какой-то речушки, – возбужденно заговорил Витька Денисов, – а ночь лунная-лун-ная, и морозец уже ледком речку от берега к берегу перехватывает. В пилотках холодно, уши мерзнут. А мы лежим. Вдруг слышу шорох и вижу лодку, а в лодке двое. Дыхание сперло. Беру на мушку того, что на руле, а напарнику говорю: «Бери на веслах!» Веду на мушке и почему-то крикнул: «Кто идет?!» И детский голос. Понимаешь – детский! «Тутошние мы». Они с матерью в город пробирались барахло на хлеб менять, на сухари. Нет! Ты понимаешь, тут диверсанты, а они за хлебом, ночью. Я ж их срезать мог как дважды два. У меня глаз верный, без промаха в десятку ляпаю! И что тогда?! Это, брат, пострашнее диверсантов.
– Ну а диверсантов-то кто из вас видел? – хитро подмигивая, спрашивает Парамонов.
– Это ты вон у Тольки Гунченко спроси – он тебе полный отчет даст.
И все из новоприбывших разом захохотали.
